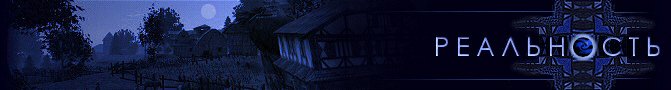|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клайв ЛьюисБоль |
Человеческая больПоскольку жизнь Христа во всех отношениях противна природе, самости и человеческому «я» (ибо в истинной жизни Христа сущность, «я» и природа должны быть отринуты, забыты, должны совершенно умереть), поскольку в каждом из нас природа повержена ею в ужас. Theologia Germanica, XX В предыдущей главе я попытался показать, что возможность боли заключена в самом существовании мира, где души могут встречаться. Когда души станут злыми, они наверняка употребят эту возможность для того, чтобы причинить боль друг другу – и в этом, наверное, состоит причина четырех пятых всех человеческих страданий. Люди, а не Бог, произвели на свет дыбы, плети, тюрьмы, рабство, огнестрельное оружие, штыки и бомбы. Благодаря человеческой жадности и глупости, а вовсе не из-за враждебности природы, мы видим нищету и работу на износ.) Но остается, тем не менее, немало страданий, в которых мы не повинны. Даже если бы все страдания вызывались людьми, мы хотели бы знать причину той широчайшей свободы пытать своих ближних, какую Бог дает худшим из людей. (Или, возможно, точнее будет сказать «худшим из созданий». Я никоим образом не отвергаю взгляд, согласно которому «фактической причиной» болезней, хотя бы некоторых, может быть сотворенное существо, отличное от человека. В Писании дьявол конкретно ассоциируется с болезнью в Книге Иова, в Евангелии от Луки (13:16), в 1 Кор. 5:5 и (вероятно) в 1 Тим. 1:20. На нынешней стадии нашего рассмотрения безразлично, являются ли все воли, которые Бог попустил иметь власть пытать другие создания, человеческими или нет.) Сказать, как это было сказано в предыдущей главе, что благо для таких существ, какими мы сейчас являемся, значит в первую очередь благо .целительное и исправляющее – не значит дать полный ответ. Не всякое лекарство противно на вкус, а будь оно и так, это был бы сам по себе один из неприятных фактов, причину которых нам хотелось бы знать. Перед тем, как идти дальше, я рискну вернуться к сказанному во второй главе. Я писал там, что боль, ниже известного уровня интенсивности, не вызывает отвращения и может даже нравиться. Наверное, вам хотелось тогда возразить, что в таком случае мне не следует называть это болью, и вы, возможно, были правы. Но истина состоит в том, что слово «боль» имеет два значения, которые в данный момент необходимо различать, а) Особого рода ощущение, передаваемое, вероятно, специальными нервными волокнами и узнаваемое тем, кто ему подвергается, как таковое, – независимо от того, нравится оно ему или нет (т.е., слабая боль у меня в конечностях признается болью, хотя я и не возражаю против нее), б) Любое чувство, будь-то физическое или душевное, не нравящееся тому, кто ему подвергается. Следует отметить, что любая боль в значении «а» становится болью в значении «б», если она превышает определенный весьма низкий уровень интенсивности, но боль в значении «б» не обязательно является болью в значении «а». Боль в значении «б» фактически синонимична «страданию», «муке», «испытанию», «напасти» и «бедствию», и именно она порождает проблему боли. В остальной части этой книги слово «боль» будет употребляться в значении «б» и будет включать в себя все виды страдания. Значение же «а» нас больше не занимает. Истинное благо твари состоит в предании себя воле Творца – умственной, волевой и эмоциональной реализации отношения, заданного тем простым фактом, что это – тварь. Когда она так поступает, она благополучна и счастлива. И это вовсе не тягота – этот род блага исходит от уровня, который намного выше тварного, ибо Сам Бог, как Сын, извечно воздает Богу Отцу сыновним повиновением за то бытие, которое Отец отчей любовью извечно порождает в Сыне. Это – образец, которому человек был сотворен подражать, которому райский человек воистину подражал, – и там, где воля, данная Творцом, столь совершенным образом предается ему в восторженном и восторгающем повиновении, там-то, несомненно и есть царствие небесное, там-то и царит Святой Дух. В мире, каким он нам предстает, проблема состоит в том, как вернуться к этой самоотдаче. Мы не просто несовершенные создания, которые нуждаются в улучшении-мы, по словам кардинала Ньюмана, мятежники, котор э1е должны сложить оружие. Поэтому первый ответ на вопрос, почему наше исцеление должно быть болезненным, состоит в том, что вернуть Творцу волю, которую мы так долго считали своей, – само по себе невыносимо больно, где бы и каким бы образом это ни происходило. Даже в раю я предполагаю наличие минимальной приверженности своему «я», которое необходимо преодолеть, хотя это преодоление, эта покорность сопряжены там с восторгом. Но уступить собственную волю, распаленную и разбухшую за долгие годы узурпации – это в своем роде смерть. Мы не помним эту волю, какой рна была в детстве – злобную и неутолимую ярость при каждом пресечении, поток горьких слез, черное, сатанинское желание скорее убить или умереть, чем уступить. Поэтому няни и родители старой школы были совершенно правы, считая, что в воспитании первым делом необходимо «сломить ребенку волю». Их методы были часто неверными, но не видеть необходимости в этом – значит, на мой взгляд, отказаться от всякого понимания духовных законов. И если теперь, когда мы выросли, мы не так часто воем и топаем ногами, то это отчасти потому, что наши родители начали процесс ломки и уничтожения нашей эгоистической воли еще с пеленок, а отчасти потому, что те же страсти принимают сейчас более тонкие формы и стали хитрее в методах избежания смерти путем различных «компенсаций». Отсюда следует необходимость ежедневного умирания, ибо как бы часто мы ни полагали, что сломили мятежное «я», мы вновь обнаружим его живым. О том, что этот процесс невозможен без боли, свидетельствует выражение «умерщвление плоти». Но эта неизбежная боль, или даже смерть, в процессе укрощения узурпированного «я» – это еще далеко не все. Как ни парадоксально, укрощение или умерщвление плоти, хотя и представляющее само по себе боль, облегчается присутствием другой боли. На мой взгляд, это происходит трояким образом. Человеческий дух не сделает даже попытки уступить свою самостоятельную волю, пока с ним все в видимом порядке. Дело в том. что заблуждение и грех характерны тем, что чем глубже, тем менее их жертва подозревает о их существовании – их зло замаскировано. Боль – зло незамаскированное, узнаваемое безошибочно. Каждый человек знает, что когда он чувствует боль, что-то не в порядке. Мазохист не представляет собой в этом отношении настоящего исключения. Садизм и мазохизм изолируют, а затем преувеличивают некоторый «момент» или «аспект» нормальных половых отношений. Садизм (современная тенденция – подразумевать под «садистской жестокостью» просто сильную жестокость или жестокость, особо осуждаемую автором, – не точна) преувеличивает аспект пленения и господства до такой степени, что извращенца удовлетворяет лишь дурное обращение с объектом любви – как если бы он говорил: «Я имею над собой такую власть, что даже мучаю тебя». Мазохизм преувеличивает противоположно-дополнительный аспект и провозглашает: «Я настолько очарован, что приветствую даже боль от твоих рук». Если бы боль не ощущалась как зло – как поругание, подчеркивающее полное господство партнера – она перестала бы быть для мазохиста эротическим стимулом. И боль ведь не только немедленно опознаваемое зло, но и зло, которое невозможно игнорировать. Мы можем удовлетворенно погрязать в наших грехах и наших глупостях – и каждый, кто видел, как обжоры пихают в себя самую изысканную пищу, словно не отдавая себе отчета в том, что они едят, признает, что мы можем игнорировать даже удовольствие. Но боль настаивает на том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших удовольствий, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли – это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. Дурной человек, когда он счастлив, – это человек, нимало не подозревающий, что его действия не «соответствуют», что они не созвучны законам вселенной. Понимание этой истины лежит в основе всеобщего человеческого мнения, что плохие люди должны поплатиться. Бесполезно отмахиваться от этого мнения, словно оно есть невесть какая подлость. В своем самом мягком выражении оно аппелирует к имеющемуся у каждого чувству справедливости. Однажды, когда мы с братом, еще маленькими детьми, рисовали за одним столом, я толкнул его под локоть, так что он провел ни к чему не подходящую линию через середину своего рисунка. Мы дружески утрясли єто дело, позволив ему провести линию такой же длины через мой рисунок. Таким образом я был поставлен на его место», заставлен взглянуть на свою неосторожность его глазами. В моем более жестком выражении та же самая идея принимает характер «карающего воздаяния», наказания по заслугам. Некоторые просвещенные люди хотели бы изгнать любое понятие воздаяния или заслуженной кары из своей теории наказания, и сделать упор исключительно на предотвращении других преступлений и перевоспитании преступника. Они не понимают, что таким образом они делают любое наказание несправедливым. Что может быть безнравственнее, чем причинить мне страдание радй предотвращения моих будущих проступ ков, если я этого не заслуживаю? А если я этого заслуживаю, то вы допускаете справедливость «воздаяния». А что может быть бесчеловечнее, чем схватить меня и подвергнуть неприятному процессу нравственного возвышения без моего согласия, если и только, опять же, я этого не заслуживаю? В еще более жестком выражении мы имеем дело с такой страстью, как жажда мщения. Это, конечно же, зло, запрещенное христианам. Но мы уже, кажется, выяснили в ходе обсуждения садизма и мазохизма, что самые мерзкие стороны человеческой природы – это извращения добрых и невинных сторон. То доброе, извращением чего является страсть к возмездию, с разительной ясностью предстает в данном Гоббсом определении мстительности, «желания, причинив боль другому, принудить его осудить некоторый его поступок» («Левиафан»). Месть теряет из виду цель своих средств, но цель эта не вовсе плоха – она состоит в том, чтобы зло дурного человека явилось ему тем же, чем оно является для всех прочих. Это доказывается тем фактом, что мстящий желает, чтобы виновный не просто пострадал, а пострадал бы от его руки, и чтобы он знал об этом, и знал, почему. Отсюда побуждение напомнить виновному о его преступлении в момент исполнения мести, отсюда также такие естественные выражения, как «интересно, как бы ему понравилось, если бы с ним поступили так же» или «я его проучу». По той же причине, собираясь дать человеку словесную выволочку, мы говорим, что хотим «дать ему знать, что мы о нем думаем». Когда наши предки упоминали о страданиях и скорбях, как о Божьем «возмездии» за грех, они не обязательно приписывали Богу дурные страсти – возможно, они лишь признавали добрый элемент в идее воздаяния. До тех пор, пока дурной человек не обнаружит несомненное присутствие зла в своем существовании, в форме боли, он погружен в иллюзии. Как только боль от кроет ему глаза, он будет знать, что он каким-то образом противостоит реальной вселенной,– он либо взбунтуется (с возможностью более ясного прозрения и более глубокого раскаяния в будущем), либо попытается исправить положение, что, в конечном счете, может привести его к религии. Правда, ни тот, ни другой результат не является сейчас с той неизбежностью, с какой он являлся в эпохи, когда существование Бога (или даже Богов) было шире известно, но даже в наши дни мы видим эти результаты. Даже атеисты бунтуют и выражают, подобно Харди и Хаусману, свою ярость по отношению к Богу, хотя (или потому что) Он, на их взгляд, не существует. А другие атеисты, подобно Хаксли, вынуждены под давлением страдания обращаться ко всей проблеме сущест вования искать какой-то способ ее решения– пусть не христианский, но все же стоящий почти бесконечно выше идиотского довольствования мирской жизнью. Нет сомнения в том, что боль в качестве Божьего мегафона – ужасный инстру-мент, который может привести к окончательному не ведающему раскаяния бунту. Но она дает дурному человеку единственную существенную возможность исправления. Она снимает завесу, она водружает знамя истины в крепости мятежной души. Если первое и самое низкое действие боли уничтожает иллюзию полного благополучия, то второе уничтожает иллюзию, заключающуюся в том, что имеющееся в нашем распоряжении, будь оно само по себе плохо или хорошо, .есть наше собственное, и что нам его достаточно. Каждый замечал, как тяжело обращать наши мысли к Богу, когда у нас все обстоит хорошо. У нас есть все, чего мы хотим» – что за ужасные слова, когда это «все» не включает себя Бога. Мы видим в Боге помеху. Как сказал где-то Бл. Августин: «Бог хочет дать нам нечто, но не может, потому что наши руки полны – и Ему некуда это положить». Или как сказал мой друг: «Мы относимся к Богу, как авиатор относится к своему парашюту – на случай аварии парашют у него есть, но он надеется никогда к нему не прибегнуть». Бог, сотворивший нас, знает, что мы такое, и что наше счастье состоит в Нем. Но мы не хотим искать в Нем этого счастья, покуда Он. оставляет хоть какую-то возможность искать его, в любом другом месте,. До тех пор, пока то, что мы именуем «нашей собственной жизнью» остается сносным, мы не хотим предавать себя Ему. Что же тогда остается Богу предпринять в наших, интересах, как не сделать «нашу собственную жизнь» менее сносной и отнять у нас возможные источники ложного счастья? Именно здесь, где провидение Бога кажется на первый взгляд наиболее жестоким. Божественное смирение, снисхождение Всевышнего заслуживает наивысшей похвалы. Мы теряемся, видя, как сваливается беда на порядочных, безобидных, достойных людей – на способных и усердных матерей семейств, или на старательных и экономных мелких торговцев, на тех, кто заплатил таким усердным и честным трудом за свою скромную долю счастья и теперь, кажется, начинает по самому полному праву им пользоваться. Как мне сказать с достаточной кротостью то, что надлежит здесь сказать? Неважно, что, как я знаю, в глазах всякого враждебно настроенного читателя мне предстоит стать, так сказать, лично ответственным за все страдания, которые я пытаюсь объяснить – точно так же, как до сего дня все рассуждают так, словно Бл. Августин хотел, чтобы не крещенные младенцы отправлялись в ад. Но исключительно важно, чтобы я никого не отвратил от истины. Я умоляю читателя попытаться поверить мне, хотя бы на мгновение, что Бог, сотворивший этих достойных людей, может быть, прав, полагая их скромное благополучие и счастье их детей недостаточными для их блаженства – всего этого им предстоит впоследствии лишиться, и если они не познают Его, они будут несчастны. И потому Он тревожит их, предупреждает их заранее о недостаточности, которую им предстоит когда-нибудь обнаружить. Жизнь для своих семей загораживает им путь к признанию их нужды, и Бог делает эту жизнь менее приятной для них. Я называю это Божественным смирением, потому что нам не пристало посылать Богу мольбу о спасении, когда наше судно идет ко дну, жертвовать «нашим собственным», когда уже не стоит им обладать. Если бы Бог был горд. Он вряд ли принял бы нас на таких условиях, – но Он не горд, Он снисходит для победы, Он готов принять нас, несмотря даже на то, что, как мы показали, .•'мы предпочитаем Ему все, что угодно, и приходим •»•к. Нему лишь потому, что уже не ожидаем «ничего 'лучшего». То же смирение сквозит и в отношении Бога к нашим страхам, которые так не по вкусу читателям Писания с возвышенным образом мыслей. Вряд ли Богу лестно, что мы выбираем Его в качестве альтернативы аду, но Он принимает даже это. Присущая созданию иллюзия самодостаточности должна быть, ради самого создания, развеяна, и посредством бедствий или опасения бедствий на земле Бог развеивает ее, «не тщась об умаленьи Своей славы». Желающие, чтобы Бог Писания был строже в нравственном отношении, не сознают, чего они просят. Будь Бог кантианцем, ни принимающим нас до тех пор, пока мы не придем к Нему из самых чистых и лучших побуждений, – кто бы спасся? И эта иллюзия самодостаточности, возможно, наиболее сильна в некоторых очень честных, добрых и умеренных людях, и поэтому на долю таких людей должны выпадать бедствия. Опасность кажущейся самодостаточности объясняет, почему наш Господь относится к порокам бездумных и беспутных людей намного снисходительнее, чем к порокам, которые ведут к мирскому успеху. Проституткам не грозит опасность настолько удовлетвориться своей нынешней жизнью, что они не смогут обратить взоры к Богу, но гордым, скаредным и самодовольным такая опасность грозит. Третья функция страдания несколько труднее для понимания. Каждый согласится с тем, что выбор представляет собой принципиально сознательный акт – выбирая, человек должен сознавать, что он стоит перед выбором. Райский человек всегда, по собственному выбору, исполнял волю Бога. Следуя ей, он удовлетворял и собственное свое желание, как потому, что требуемые от него поступки вполне отвечали его невинной природе, так и потому, что само служение Богу было для него величайшим удовольствием, в отсутствие которого все радости, которым оно придавало остроты, стали бы для него пресными. Тогда не вставал вопрос: «Делаю я это для Бога, или же просто потому, что мне так нравится?», потому что райскому человеку как раз и нравилось в основном то, что он делал для Бога. Его устремленная к Богу воля держала его счастье под седлом, как хорошо ухоженную лошадь, тогда как наша воля уносится этим счастьем как кораблем, вниз по бурной реке. В то время удовольствие было приемлемым приношением Богу, потому что приношение было удовольствием. Но мы унаследовали целую систему желаний, которые не обязательно противоречат Божьей воле, но которые, после столетий узурпированной автономии, упорно ее игнорируют. Если вдруг нечто, что нам нравится делать, оказывается тем, чего хочет от нас Бог, то это не является для нас побуждением к совершению такого действия, будучи попросту счастливым совпадением. Поэтому мы не в состоянии осознать, действуем ли мы хоть в какой-то степени, или в первую очередь, в угоду Богу, если только природа наших действий не противна нашим наклонностям, или, иными словами, болезненна, – а если мы не сознаем, что осуществляем выбор, то мы не в состоянии выбирать. Поэтому акт предания себя Богу, во всей его полноте, требует боли, – совершенство такого поступка требует, чтобы он исходил из чистой воли к повиновению, в отсутствие, или вопреки, склонности. Насколько невозможно осуществить самоотречение путем действий, которые нам по душе, мне очень хорошо известно из моего собственного опыта в данный момент. Когда я взялся писать эту книгу, я надеялся, что в моих побуждениях хотя бы какое-то место займет 'водя к повиновению некоему «руководству». Но теперь, когда я полностью в нее погрузился, это стало скорее искушением, чем долгом. Я все еще могу надеяться, что написание этой книги в самом деле соответствует Божьей воле, – но было бы смехотворным утверждать, что я учусь самоотречению, делая нечто для меня привлекательное. Здесь мы ступаем по очень неверному грунту. Кант считал, что никакое действие не имеет моральной ценности, если оно не предпринято из чистого преклонения перед нравственным законом – то есть, в отсутствие склонности, – и его обвиняли в «болезненном складе ума», измеряющем ценность поступка степенью его неприятности. И притом, общее мнение явно на стороне Канта. Люди никогда не восхищаются человеком, который делает то, что ему нравится. Уже сами по себе слова – «Да ведь это ему нравится!» – подразумевают вывод: «А значит, в этом нет заслуги». Но Канту противостоит тот очевидный факт, отмеченный еще Аристотелем, что чем добродетельнее становится человек, тем больше удовольствия он получает от добродетельных поступков. Не знаю, как быть атеисту с этим конфликтом между моралью долга и моралью добродетели, но, как христианин, я предлагаю следующее решение. Иногда задается вопрос, дает ли Бог определенные повеления потому, что они верны, или же они верны потому, что отданы Богом. В согласии с Хукером, и вопреки доктору Джонсону, я ревностно принимаю первый вариант. Второй может привести к отвратительному выводу (к которому, кажется, пришел Пейли), что милосердие есть благо лишь потому, что так произвольно повелел Бог, – что Он мог с тем же успехом повелеть нам ненавидеть Его и друг друга, и тогда эта ненависть была бы правильной. Напротив, я считаю, что «заблуждаются полагающие, что воле Бога совершить то или иное нет причины иначе, как в Его воле» (Хукер. «Законы церковного устройства»). Воля Бога определяется Его мудростью, которая всегда различает изначальное добро, и Его благостью, принимающей это добро. Но говоря, что Бог дает определенные повеления лишь потому, что их предметом является добро, мы должны добавить, что одно из изначальных благ заключается в том, что разумные существа должны по собственной воле самоотречение подчиниться своему Создателю. Предмет нашего повиновения – то, что нам повелевают делать, – всегда будет изначальным благом, чем-то, что мы должны исполнять даже в том случае, если – предположим невероятное – Бог не повелел бы так поступить. Но, вдобавок к предмету, уже само повиновение есть также изначальное благо, ибо, повинуясь, разумное существо сознательно берет на себя свою тварную роль, обращает вспять действие, посредством которого мы пали. Поэтому мы согласимся с Аристотелем в том, что изначально правильное вполне может быть приятным, и что чем лучше человек, тем больше оно будет ему нравиться. Но мы согласны с Кантом настолько, чтобы утверждать, что существует одно правильное действие – самоотречение, – которого не могут в полной мере возжелать падшие создания, если только оно не неприятно. И мы должны добавить, что это конкретное правильное действие включает в себя всю остальную праведность, и что полнейшее погашение Адамова грехопадения, движение «полным ходом назад», с помощью которого мы проходим вспять наш долгий путь от рая, развязывание старого крепкого узла имеет место тогда, когда создание, не помышляя о сопротивлении, обнаженное до голой воли к повиновению, принимает противное своей природе и совершает то, к чему возможно лишь одно-единственное побуждение. Такой поступок может быть охарактеризован как «испытание» возвращения к Богу, и потому наши отцы говорили, что беды посылаются нам «во испытание». Знакомый пример – «испытание» Авраама, когда ему было приказано принести в жертву Исаака. Меня сейчас занимает не историчность или мораль этого рассказа, а очевидный вопрос: «Если Бог всеведущ. Он должен был без всякого эксперимента знать, как поступит Авраам – к чему же эта ненужная пытка?» Но, как отвечает Бл. Августин («О граде Божием»), что бы там ни было известно Богу, Авраам, во всяком случае, не знал, что его повиновение может выдержать подобное повеление, пока факт не убедил его в этом. А так как он не знал, изберет ли он подобное повиновение, то и нельзя было сказать о нем, что он его избрал. Реальность повиновения Авраама состояла именно в его поступке, и то, что знал Бог в Своем осознании повиновения Авраама, было реальное повиновение Авраама, в то мгновение на вершине горы. Говорить, что Богу «незачем было экспериментировать», – значит утверждать, что то, о чем Бог знает, не обязано существовать. Если боль порой и разрушает ложную самодостаточность создания, то в высочайшем «испытании» или «жертве» она учит его той самодостаточности, которой оно должно обладать – «силе, которая, дарованная свыше, принадлежит ему». Ибо тогда, в отсутствие всех попросту естественных побуждений и подпор, оно действует в той – и исключительно в той – силе, которую Бог ниспосылает ему через его подчинившуюся волю. Человеческая воля становится поистине творческой и поистине нашей собственной, когда она целиком принадлежит Богу, и в этом смысле – в одном из многих – потерявший свою душу обретет ее. Во всех прочих действиях наша воля движется природой, то есть сотворенными вещами, отличными от нашего «я», – желаниями, поступающими к нам от нашего физического организма и нашей наследственности. Когда мы действуем только от себя – то есть, от Бога внутри нас – мы являемся сотворцами, или инструментами творения. И поэтому такой акт снимает нетворческое заклятие, наложенное на наш вид Адамом. Поэтому, точно так же, как самоубийство является типичным выражением стоического духа, а битва – духа воинственного, мученичество всегда остается высочайшим выражением и совершенством христианства. Это великое действие было начато для нас, совершено-ради нас, поставлено примером для нашего подражания и таинственным образом сообщено всем верующим Христом на Голгофе. Здесь степень принятия смерти достигает последних пределов вообразимого и, возможно, выходит за них. Не только все природные опоры, но даже присутствие самого Отца, которому приносится жертва, покидает жертву, и предание ее в руки Бога происходит неукоснительно, хотя Бог и «покидает» ее. Учение о смерти, излагаемой мной, не является исключительным достоянием христианства. Сама природа выписала его жирным шрифтом по всему миру в повторяющейся драме погребенного зерна и восставших из земли колосьев. От природы, видимо, научились этому старейшие сельскохозяйственные общины, которые, принесением в жертву животных или людей, столетиями демонстрировали истину, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22), и хотя на первых порах подобные идеи, возможно, имели отношение только к урожаю и к потомству племени, 'позднее, в мистериях, они стали относиться к духовной смерти и воскресению индивида. Индийский аскет, умерщвляющий плоть на утыканном гвоздями ложе, проповедует ту же истину. Греческий философ говорит нам, что жизнь в мудрости – это «занятие смерти» (Платон. «Федр»). Тонкий и -благородный язычник нового времени заставляет своих воображаемых богов «умирать в жизнь» (Ките. «Гиперион»). Олдос Хаксли провозглашает «неприверженность». Мы не можем уйти от этого учения, просто перестав быть христианами. Это «вечное Евангелие», возвещаемое_пюдям везде, где бы они ни искали истины и не жили с ней, это самая сердцевина искупления, всегда и везде обнажаемая анатоми-зирующей мудростью, это неизбежное знание, которое Свет, просвещающий каждого, влагает в разум всем, кто всерьез задается вопросом о смысле вселенной. Особенность христианской веры состоит не в том, что она проповедует это учение, а в том, что она делает его во многих отношениях более приемлемым. Христианство учит, что тяжкий путь уже в каком-то смысле пройден за нас – что рука учителя держит нашу руку, в то время как мы силимся выводить трудные буквы, и что написанное нами может быть лишь «копией» и не обязано быть оригиналом. Опять же, тогда как другие системы подвергают смерти всю нашу природу, как в буддистском отречении, христианство требует всего лишь чтобы мы выправили ложное направление в нашей природе и, в отличие от Платона, ничего не имеет против тела, как такового, и физических элементов в нашем составе. И жертва в ее высочайшем воплощении спрашивается не с каждого. Исповедники, равно как и мученики, спасаются, а некоторые старики, в чьем благодатном состоянии мы вряд ли можем сомневаться, производят впечатление доживших до своих семидесяти лет с удивительной легкостью. Жертва Иисуса повторяется, или отдается эхом, среди Его последователей в различной степени – от жесточайшего мученичества до внутреннего подчинения, внешние признаки которого неотличимы от обычных плодов умеренности и здравомыслия. Причин такого распределения я не знаю, но с нашей нынешней точки зрения должно быть ясно, что настоящая проблема заключается не в том, почему иные смиренные и набожные люди страдают, а почему некоторые не старадают вовсе. Следует помнить, что Сам наш Господь объяснил спасение тех, кто был счастлив в этом мире, лишь сославшись на непостижимое всемо-гущество Бога (Марк. 10:27). Все эти аргументы в оправдание страдания вызывают сильную неприязнь к автору. Вам хотелось бы знать, как я веду себя, когда испытываю боль, а не тогда, когда я пишу об этом книги. Вам ни к чему строить догадки, ибо я признаюсь вам: я страшный трус. Но какое это имеет отношение к нашему предмету? Когда я думаю о боли – о прожорливой, как огонь, тревоге, и об одиночестве, простирающемся подобно пустыне, о надрывающем сердце монотонном мучении, или же о тупой ноющей боли, затмевающей весь видимый мир, о внезапной тошнотворной боли, одним ударом парализующей сердце, о боли, которая уже казалась невыносимой, и вдруг внезапно усилилась, о повергающей в ярость, жалящей подобно скорпиону боли, которая заставляет человека, уже казалось бы полумертвого от предыдущей пытки, дергаться в маниакальных корчах – это затмевает во мне дух. Если бы я знал средство избежать этого, я бы пополз в поисках такого средства по канализационным трубам. Но что пользы говорить вам о моих чувствах? Вам они уже известны – они те же, что и ваши. Я не утверждаю, что боль не болезненна. Боль очень неприятна. Слово «боль» именно это и означает. Я лишь пытаюсь показать, что старое христианское учение о достижении «совершенства через страдание» (Евр. 2:10) не является невероятным. Сделать его приемлемым не входит в мои планы. При оценке правдоподобия учения следует соблюдать два принципа. Прежде всего мы должны помнить, что реальный момент сиюминутной боли – это лишь центр того, что можно назвать целой системой бедствий, ширящейся посредством страха и жалости. Возможность благих последствий этих чувств зависит от центра – так что если бы даже сама боль не имела духовной ценности, но страх и жалость обладали бы ею, боль должна бы была существовать затем, чтобы был повод для страха и жалости. А в том, что страх и жалость помогают нам в нашем возвращении к повиновению и милосердию, нет никакого сомнения. Каждый знает по себе, как жалость помогает нам любить то, что не кажется достойным любви, – то есть, любить людей не потому, что они каким-то образом естественно нам приятны, а потому, что они наши братья. Благодатность страха большинство из нас изведало в период «кризисов», приведших к нынешней войне. Мой собственный опыт в общих чертах таков. Я движусьдр тропе жизни в моем обычном,. удовлетворенно павшем и безбожном.состоянии, поглощенный предстоящей веселой встречей с друзьями, или какой-то работой, которая в настоящий момент потворствует моей гордыне, праздником или новой книгой, как вдруг внезапная боль в животе, грозящая серьезной болезнью, или заголовок в газетах, грозящий всем нам уничтожением, обрушивает весь этот карточный домик. Вначале я ошеломлен, и все мои маленькие радости похожи на поломанные игрушки. Затем, медленно и неохотно, мало-помалу, я пытаюсь привести себя в то расположение духа, в котором мне следовало бы пребывать всегда. Я напоминаю. себе, что все эти игрушки никогда не^должны были владеть моим сердцем, что мое истинное благо – в ином мире, иято мое единственное сокровище – Христос.. И возможно. Божьей благодатью, мне это удается, и на день-два я становлюсь созданием, сознательно зависимым от Бога и черпающим свою силу из верных источников. Но в то самое мгновение, как угроза минует, вся моя природа бросается назад к игрушкам – я даже тороплюсь изгнать из сознания, да простит меня Бог, то единственной, что поддерживало меня перед лицом угрозы, потому что теперь оно ассоциируется с горестями этих нескольких дней. Таким образом, ужасная необходимость испытаний совершенно очевидна. Я был с Богом лишь двое суток, и то лишь потому, что Он отнял у меня все остальное. Стоит Ему на мгновение вложить этот меч в ножны, и я веду себя, как щенок, когда с ненавистным купанием покончено, – я, как могу, отряхиваюсь насухо и мчусь прочь, чтобы вновь обрести свою привычную чумазость, если и не в ближайшей куче навоза, то, по крайней мере, в ближайшей клумбе. И поэтому испытания не .могут прекратиться до тех пор, пока Бог не увидит, что мы либо переродились, либо ожидать/ от нас перерождения уже бесполезно. Во-вторых, когда рассматриваем саму боль – центр всей этой системы бедствий, – мы должны, со всей осторожностью, обращать внимание на то, 'что нам известно, а не на то, что мы воображаем^ Это одна из причин, по которой вся центральная часть этой книги посвящена человеческой боли, а боль животных отнесена в особую главу. Человеческая боль нам известна, а о боли животных мы можем лишь строить догадки. Но даже в пределах человеческого рода мы должны черпать свидетельства из примеров, которые нам доводится наблюдать лично. Тот или иной поэт или прозаик может иметь тенденцию изображать страдание, как нечто полностью отрицательное в своих последствиях, как вызывающее и оправдывающее всевозможное зло и жестокость в страдающем. И, конечно же, боль, как и удовольствие, можно воспринимать х та к им образом – все, что дается созданию со свободной волей, по необходимости имеет две стороны – не из-за природы дающего или дара, а из-за природы получающего. (Относительно двусторонней природы боли см. «Дополнение».) И опять же, зло, вызываемое болью, может умножаться, если посторонние лица упорно убеждают страдающих, что подобные результаты являются вполне подобающими и мужественными, и их следует выставлять на всеобщее обозрение. Такая великодушная страсть, как возмущение чужими страданиями, должна хорошо контролироваться, чтобы ойа не лишила страдающих терпения и смирения, заменив их гневом и цинизмом. Но я не думаю, чтобы страдание, в отсутствие подобного назойливого возмущения вчуже, имело естественную тенденцию приводить к такому злу. Я не нашел во фронтовых окопах большей ненависти, эгоизма, бунтарства и бесчестия, чем в каком бы то ни было другом месте. Я видел в иных великих страдальцах великую красоту духа. Я наблюдал, как люди с прошествием лет становятся большей частью лучше, а не хуже, и я видел, как предсмертный недуг обнажал в самых малообещающих кандидатах истинные сокровища стойкости и кротости. Я вижу в таких исторических фигурах, как Джонсон и Каупер, предметах любви и поклонения, черты, которые вряд ли были бы переносимыми, будь эти люди счастливее. Если мир и впрямь представляет собой «юдоль душетворе-ния», то похоже, что в целом он справляется со своей работой. О нищете – бедствии, которое заключает в себе, в действительном или потенциальном виде], все прочие бедствия – я не стану говорить от своего имени, и те, кто отвергает христианство, не будут тронуты словами Христа о том, что нищета блаженна. Но здесь мне на помощь приходит один довольно замечательный факт. Те, кто наиболее гневно обличает христианство как попросту «опиум для народа», питают презрение к богатым» – то есть, ко всему человечеству, за исключением бедных. Они рассматривают бедных как единственных людей; которых стоит уберечь от «ликвидации», и видят в них единственную надежду человеческого рода. Но это несовместимо с мнением, что влияние нищеты на тех, кто ею обременен, целиком отрицательно – отсюда следует даже, что они обладают благом. Таким образом, марксизм парадоксальным образом сходится с христианством в этих двух пунктах веры, которых требует христианство – что нищета блаженна, но что ее следует устранить. |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|