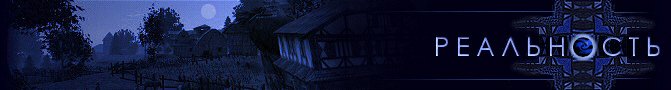|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питер Крифт Небеса, по которым мы так тоскуем |
ГЛАВА 1 ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ. СЕРДЦЕ ТОСКУЕТ ПО НЕБУ Чего же ты хочешь? «Иногда сам я думаю, что мы не хотим рая, — говорит Льюис, — но много чаще я не знаю, хотим ли мы еще чего-нибудь»1. Так ли это? Посмотрим. Взглянем в сердцевину сердца. Собственно говоря, этим занимается наука — ведь дело науки, в широком смысле слова, к тому и сводится, чтобы методично и внимательно смотреть туда, куда надо, используя правильные орудия и ставя правильные опыты. В данном случае смотреть надо в собственное сердце, честно вглядываясь в себя (это — орудие) и спрашивая самое сердце: «Чего ты хочешь?» (это — опыт, эксперимент). Отведите хотя бы час не на то, чтобы об этом читать, а на то, чтобы такой опыт поставить. (Отобрать час от внешней суеты ради встречи с собственным сердцем, наверное, будет труднее всего, но и полезней всего при вашей беспокойной жизни). Спросите сердце, чего оно хочет. Составьте список. Назовите небом самое лучшее, предел желаний. Теперь представьте, что вы — всемогущий Бог. Прикиньте, какое у вас небо, и подарите его себе. Сперва представьте, чего вам хочется. Потом представьте, что вы это получили. Наконец, представьте, что вы получили это навечно. Как вы думаете, когда вам станет скучно или не по себе? Может быть, первый ваш список не очень серьезен. Что ж, составьте другой, копните глубже — пусть там окажутся неудовольствия, власть, слава, деньги или отдых, а, скажем, друзья, здоровье, ум, свобода, чистая совесть, мир душевный. С этим вы, наверное, продержитесь еще несколько тысяч лет. Но разве все мыслимые утопии не приводят к скуке? Нет, мало того: разве самые совершенные — не самые скучные? Разве конец каждой сказки — «а потом они жили счастливо» — хотя бы вполовину так интересен, как приведшие к нему испытания? Словом, можете ли вы представить рай, который бы в конце концов не наскучил? Если не можете, значит ли это, что все хорошее, даже рай, даже небо, непременно должно прийти к такому концу? После восьмидесяти или девяноста лет почти все готовы умереть; почувствуем ли мы примерно то же после восьми или девяти веков в раю? Хочется ли вам, чтобы в вашем раю была смерть? Ну и рай, однако! С собой покончишь, только бы оттуда вырваться. Если же мы не хотим ни умереть, ни соскучиться, чего нам надо? Если рай реален, какое реальное желание он удовлетворяет? Если нереален, если это — выдумка, зачем мы выдумываем? Чего хотим? Хотим мы рая, где нет ни смерти, ни скуки; представить его — не можем. Как же это мы хотим того, чего и не представишь? Желания наши намного глубже воображения и мысли; сердце глубже рассудка. «Больше всего хранимо сердце твое, ибо в нем источники жизни», — говорит Соломон (Прем 4:23). Сердце — наша сердцевина, наш корень, из него исходит все, что мы делаем2. Там решаем мы, каков смысл нашей жизни, ибо глубочайшие наши желания образуют нас, устанавливают нашу неповторимую личность. Мы — не только то, что мы есть, но и то, чего мы хотим. Поверхностных желаний это не касается. От того, что мы хотим мороженого, мы мороженым не станем. А вот в сердцевине скорее желание определяет желающего, чем желающий — желание. Эту странную истину о нас самих можно увидеть под другим углом: можно заметить, что мы — двойные. Неповторимость наша определяется не только тем, какие мы, но и тем, какими мы хотим быть; не только настоящим «я», но и будущим, потенциальным, желаемым. Сердце наше всегда обгоняет тело. Одна наша нога — там, где мы сейчас, другая — там, где нас еще нет. Однако обе ноги — наши, мы разрываемся между небом и землей, сердце влечет нас к небу, тело — на земле. Но мы не знаем, что такое небо. Мы не можем его вообразить. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку...» Мы не знаем, чего хочет наше сердце; а потому не знаем, кто мы (если себя не обманываем). Это и страшно, и удивительно. Раз это удивительно, мы дивимся; раз это страшно, мы себя успокаиваем. Мы делаем вид, что знаем, кто мы. Мы глотаем дурацкие таблетки вроде совета: «Примите себя таким, как есть» — совета, которому и последовать нельзя, не выйдя из числа людей, ибо самая сущность человека в том, чтобы забегать вперед себя и, кое-как встав на ноги, спрашивать: «И это все?» Человек начинается с божественного недовольства. Атеист Сартр, и тот увидел это, и обрел достоинство отчаяния. Расхожая психология намного ниже честной экзистенциальной тревоги; ее предписания годятся свинье и капусте, а не мужчине и женщине. «Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей; лучше быть недовольным Сократом, чем довольным дураком»3. Если мы не так самодовольны, чтобы считать себя совершенными, мы будем недовольны, пока не станем совершеннолетними в духе, то есть совершенными. «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен» (Мф 5:48). Христос говорит нам не только извне — из Палестины, из Писания, — но и изнутри, из нашего сердца. В самой своей глубине все мы стремимся к совершенству. Если бы не стремились, мы бы просто ничего не делали. «Чем больше я изучаю себя, — пишет Тейяр де Шарден, — тем больше убеждаюсь в одной психологической истине: никто и пальцем не пошевельнет, если им, пусть очень смутно, не движет убеждение в том, что он хотя бы косвенно, хотя бы в бесконечно малом помогает создать что-то абсолютное — другими словами, помогает Тебе в Твоей работе»4. Если бы не было конечной цели, высшего блага, на которое мы, хоть подсознательно, уповаем, мы не хотели бы никаких средств, ибо средства нужны лишь для какой-то цели. Конечно, «цель оправдывает средства» — что же их еще оправдает? Не всякая цель оправдывает любое средство, добрая цель не оправдывает дурных средств; но если нет цели, разговор этот вообще бессмыслен. Что же такое «цель»? Чего мы хотим? Именно с этого вопроса — «Что вам надобно?» — начал Христос в Евангелии от Иоанна (Ин 1:38). Это — требование Сократа, «познай самого себя», ибо глубинные желания определяют нас, составляют. Христос принес нам ответ, но сперва Он должен испытать нас вопросом. А то может статься, что Он ответит не на те вопросы, которые мы хотим задать. Так чего же мы хотим? Что нам нужно? Кто нам нужен? Политик-спаситель? Звезда эстрады или экрана? Сверхчеловек? Тогда Христос — не ответ нам. Он не оправдает наших ожиданий. «Иисус — великий иконоборец (...). Самый поразительный пример — воплощение — оно разбило на куски все прежние представления о Мессии»5. Сердца наши малы для Него. Он дает нам больше, чем мы хотим, чтобы мы захотели того, что Он даст нам. Так может, мы хотим родиться снова, стать иными? Хотим обожения? Хотим семени, которое прорастает совершенством? Если да, Христос — ответ нам. На это желание Он отвечает: «Ищите и обрящете» (Мф 7:7-8, Лк 11:9-10). Все прочее можно искать и не найти — деньги, удовольствие, власть, славу, здоровье, покой, успех. Только Бога найдешь непременно. Все, кто ищет Его, Его найдут; но только те, кто ищет. «И взыщите Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер 29:13). Обретение Его и есть небо; поиски — дверь туда. Без Него мы в аду, если не ищем Его — у двери в ад. Дорога в ад вымощена не благими намерениями, а отсутствием всяких намерений, всеми этими «Плевать мне!» или «А ну его к черту!..» С вопроса «Чего мы хотим?» начинается и путь индийский. Именно это может спросить гуру у будущего ученика. Как и к Сократу, и к Христу, к гуру приходят за ответом, а получают вопрос. Чтобы на него ответить, надо взглянуть поглубже в сердце, ибо изнутри оно больше, чем снаружи. Там, в сердце, они найдут четыре уровня, «четыре человеческих желания»: наслаждение, власть, долг и просветление. Если они терпеливо, честно и смело будут исследовать дальше, они в конце концов обнаружат, что первые три приведут к разочарованию. Удовлетворив их и разочаровавшись, они понимают, что на самом деле хотят просветления, mukti (освобождения от конечного), сат-чит-ананда (бесконечной реальности, бесконечного ведения, бесконечной радости)6. Конечно, это — Бог. Индуисты называют Его Брахмой. Как и роза, Бог не изменится от того, что Его иначе назвали7. Хотя у христиан очень важные богословские расхождения с индуизмом, индуисты, по-видимому, действительно познают Бога, познавая Брахму. Лучшие мыслители Запада — Соломон (или тот, кто написал «Екклесиаст»), Платон, Аристотель, Августин, Аквинат, Паскаль или Кьеркегор — видели то же самое, и строят свою философию вокруг поисков конечной цели, удовлетворения глубиннейших желаний. Они проверяют те же три первых ответа и приходят к выводу: «Ты создал нас для Себя и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе»8. Великий Августин, написавший одну из самых мудрых на свете фраз, предложил поставить небольшой опыт, чтобы показать вам, читателю, что глубочайшее ваше желание, самая важная цель — Бог. Представьте себе, что Бог явился к вам и сказал: «Я дам тебе очень много. Я дам тебе все, что ты не попросишь — наслаждение, власть, славу, свободу, богатство, даже мир душевный и чистую совесть. Ничто не будет грехом, Я все разрешу тебе, ты все можешь сделать. Ты не соскучишься и не умрешь. Но ты никогда не увидишь Моего лица»9. Дрогнули глубины вашего сердца? Поверхностные желания так и рванулись вперед, но при этих последних словах застыла и замерла глубина глубин. Поверхность разума может этого и не знать, а вот глубина знает, что Бог вам нужен больше всего на свете. И сердце ваше неспокойно, пока не упокоится в Нем. Вы можете этого не понимать, потому что люди изо всех сил, день и ночь, на тысячи и тысячи ладов стараются скрыть это. Вот она, страшная истина «Екклесиаста»: кроме единения с Богом, кроме ответа на самое глубокое и самое безумное из наших желаний, «под солнцем» все «суета сует», тень от тени, круженье ветра. Пытаясь «осмыслить» жизнь сейчас, поскорее, своими силами, мы не придадим ей истинного смысла; набивая наши улицы, умы, животы или карманы, мы оставляем пустыми сердца, и жизнь наша — что ж, «в ней много слов и страсти, нет лишь смысла»10. Если земная жизнь — не дорога на небо, это карусель без веселья. Она подобна той карикатуре, где Джеф стоит ночью на мостовой у кучи камней, на ней — фонарь, Матт подходит и спрашивает: «Это ты фонарь поставил? — Я. — А зачем? — Чтобы машины на кучу не наехали. — Молодец. А кучу кто сложил? — Я. — Зачем? — Да фонарь упадет!» Смеемся мы, конечно, над собой. У всего в нашей жизни есть цель — камни нужны, фонарь нужен. Но зачем это все, вместе? Неужели наша жизнь — вроде черной коробочки из игрушечной лавки? Она и трещит, и пищит, и огоньки загораются, пока не иссякнет батарейка. «Много слов и страсти...» Неужели вот это — мы? Выберите как-нибудь час и посидите у моста, где едет много машин, пока грохот не воцарится в вашей душе. Потом, когда все покажется нужным, необходимым, разумным, проснитесь и спросите: «А зачем? Зачем тут мост? Ну как же, люди едут утром из предместий в город, вечером — обратно. — Зачем они едут в город? — Работать. — Что ж они делают? — Много полезного. — А что конкретней? — Есть финансисты, архитекторы, полисмены, рабочие... — Нет, что они делают? — Ну, финансисты дают деньги, чтобы строить мост, архитекторы его проектируют, рабочие строят, полисмены охраняют...» Видите? Фонарь —из-за камней, камни — для фонаря. Неужели это все? Для чего все это? Мост — средство; для какой цели? Построить больше мостов? Создать больше средств? Нет, для чего это? Для чего мы живем? Чего хотим? СОЛОВЕЙ В НАШЕМ СЕРДЦЕ Конечно, хотим мы Бога; но не все это знают. Как же об этом узнать? Не только по чьей-то молитве, и не по разумным доводам, а по опыту — по беспокойству, о котором говорит Августин, по ощущению суеты, о котором говорит Екклесиаст. Прежде чем найти Бога, мы находим дырку, отверстие, которое ничем другим не заполнить. Каждый, не только «верующий» (что бы это слово не значило) создан, рожден, предназначен, чтобы есть пищу от Бога (Пс 103:21). Когда мы хотим прокормиться чем-то другим, мы голодаем. Глубоко в нашем сердце живет соловей — назойливая, но бесконечно ценная птичка, которая просит пищи себе. Живет он гораздо глубже, чем множество зверей, которые просят громко, и проще простого не расслышать его, да и голос у него тихий, как ветер на Хориве (3 Цар 19:12). Но если мы не обращаем на него внимания, мы не найдем покоя, сколько бы ни кормили зверей (хотя их не прокормишь), ибо соловей — это мы и есть, это мы голодаем. Его не выплюнешь, не изблюешь, как пытался сделать рыцарь из «Седьмой печати»: «Рыцарь. Почему я не могу убить Бога во мне? Почему Он живет в унижении и муке, хотя я браню Его и стараюсь вырвать из сердца? Почему от Него никак не избавиться? Ты меня слышишь? Смерть. Да. Рыцарь. Я хочу ведения, а не веры... Я хочу, чтобы Бог протянул мне руку, открыл Себя, заговорил со мной. Смерть. А Он молчит. Рыцарь. Я зову Его во тьме, там никого нету... Смерть. Может, и нет. Рыцарь. Тогда жизнь ужасна. Нельзя жить перед лицом смерти, зная, что все — ничто»11. Мы пытаемся успокоить тихий, жуткий голос. Мы суем соловью корм для кошек, корм для собак, для обезьян (этот — чаще всего). Но он просит соловьиного корма, а у нас его никак не найти. Мы морим соловья голодом, но он жив. Мы заглушаем его голос, но, как рыцарь у Бергмана, не можем его убить. Вот наша главная беда, главная неудача — нам не удовлетворить самое глубокое желание. Чтобы это восполнить, мы тешим другие желания, кормим других зверей. У нас есть замечательная кормушка — та фабрика услад, та нескончаемая игра, которую мы называем современным технологическим обществом. Мы слишком заняты, чтобы слышать соловья, — ведь голос его слышен лишь в тишине: «Вдоль стойки знакомые лица, Если нам хватит ума, мы на всю свою жизнь заглушим соловьиный голос всякими другими звуками (помните, он — очень тихий). Если, на нашу беду, хватит ума... Механизмы самообмана умны, и больше всех обманывается тот, кто считает, что он-то себя не обманывает. Но мы не только обманываем себя, есть в нас и правда, она сильнее. Вот почему не насыщает нас обезьяний корм мирских удач и удовольствий. Дело не в том, может ли мирской успех дать нам прочное счастье — не может, а в том, достаточно ли мы честны, чтобы произнести великое слово «Почему?», которое движет горами. Если нам не повезло, как Александру Великому, и мы завоевали весь мир, мы плачем вместе с ним, что больше завоевывать нечего. Почему? Если мы несчастливы, как Екклесиаст, если мы не видели все под солнцем, мы горюем и страдаем, как он, о суете сует. Чего же нам надо? Под солнцем есть красота, есть добро, есть смысл — что нам еще нужно? Мы твердим: «И это все?» — словно дети, перебирающие рождественские подарки. «Ну что за жадность, что за неблагодарность!» — думаем мы, и притворяемся, что довольны; но ненадолго. Рано или поздно приходится спросить соловья: «Чего же ты хочешь?» В конце концов от правды не уйдешь, от нее можно уйти лишь в начале. Даже ад — это правда, которую мы узнали слишком поздно — «...сойду ли в преисподнюю, и там Ты» (Пс 138:8). Так что разберемся, пока не стемнело. Чего мы хотим? Чего ищут дети, перебравшие тысячи подарков? Того же самого? Побольше обезьяньего корма? Неужели нам только и нужно пожить подольше, или жить намного дольше? Нет, нам нужна другая жизнь. Ребенок в нас жаден — ему обещали совсем другой подарок, живой, вроде щенка или котенка, а в каждом пакете неживые вещи, механические игрушки. Обезьяний корм. Кто же внушил такую мысль? Кто обещал щенка, кто сказал о небе? Когда это было? Почему мы поняли? Мы узнаем это, вспоминаем; когда же мы это знали и видели, когда забыли? С нами этого не было, мы только чувствуем, что этого нет, и ничто не заполнит дыру в сердце. Но мы узнаем это по самым слабым намекам, в тысячах едва заметных подобий. Мы знаем неведомое не хуже, чем утраченного друга. Знаем целиком, не по частям; знаем как род, как общество, ибо общество наше создано не только людьми и для людей, но и из людей. На обществе — наш отпечаток, наш образ. История наша — голос голодного соловья. «Почему из всех животных у одного человека есть история? (...) Потому что мы хотим стать не такими, какие мы есть. Пока что люди творят историю, толком не зная, чего хотят и что дало бы им счастье. Собственно, они скорее делают себя еще несчастней и называют это прогрессом»13. Похожий вопрос ставит Фрейд в «Цивилизации и недовольстве». Он говорит, что с помощью техники мы удовлетворили большую часть желаний, которые в прежних обществах препоручали вымышленным богам, и стали как боги. А потом задает поразительно простой вопрос: «Почему же мы несчастливы?» И дает поразительно простой ответ: «Не знаю». (Спасибо Тебе, Господь, за честных атеистов!) ВСЕ МЫ НЕСЧАСТЛИВЫ Старая, уже немодная мудрость говорит, что нам и не положено быть счастливыми здесь, на Земле. Собственно, тут счастливых и нет, а «поиски счастья», которое американская Декларация независимости называет нашим неотъемлемым правом, — самый глупый и самый верный путь к несчастью14. Мудрость эта неприятна, и потому прислушаемся к ней. Идет она не только из прошлого — она идет изнутри, из того слабого места, которое мы прячем под твердой корой, от того ранимого ребенка, которого мы скрываем под личиной взрослого. Взрослый делает вид, что ему нужны удовольствия, власть, богатство, успех, добивается всего этого и тогда уж делает вид, что он счастлив. Но ребенок в нас знает, что нам нужна бесконечная радость, никак не меньше; и еще он знает (мы знаем), что у нас ее нет. Романтики ошибались, дети несчастливы. Они слишком честны перед собой, чтобы так заблуждаться. На самом деле счастливых нет. Никто не счастлив, так у всех, это не зависит от нрава и склада, от темперамента и чувств, они всегда идут волнами (каждый из нас хоть немного страдает маниакально-депрессивным психозом). Под верхним слоем, под волнами услад и неудовольствий, остается глубокий голод сердца. Поскольку дело не в складе и не в чувствах, глубинная неудовлетворенность проявляется, как ни странно, не тогда, когда наша жизнь полна страхов и страданий — если бы так, мы просто могли бы счесть ее спасением, бегством. Она сильнее всего, когда мы живем как нельзя лучше. Пока у нас нет обычного счастья, мы вольны утешать себя фразами, начинающимися с «Если бы только...» А вот когда у нас есть и то, и другое, а счастья нет, неудовлетворенность выходит наружу. Вот почему наше богатое и могущественное время ничуть не счастливей былого. Это — ответ на вопрос Фрейда. «Меня всегда тянуло к смерти, — сказала она. — Психея, — сказала я, — неужели я дала тебе так мало счастья? — Нет, что ты! — отвечала сестра. — Ты не понимаешь. Не в этом смысле "тянуло". Это как раз от счастья. В самые лучшие дни, когда мы втроем ходили в горы, дул ветер, светило солнце... Было так красиво, что я... ну, меня тянуло куда-то, словно говорило мне: "Иди сюда", а я еще не могла прийти, и не знала, куда же именно. Мне больно становилось, словно я птица в клетке, а другие птицы летят домой»15. В самом сердце величайших радостей таится печаль, она больше их, больше всего на свете. Она притаилась там, словно крокодил, который готов сожрать этот мир, будто яблоко, что ж удивляться, если мы бодримся и, как это ни смешно, пытаемся превратить землю в рай? Удивительного тут мало, а мудрости — просто нет. МЫ ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ Так в чем же мудрость? В том, чтобы задавать вопросы. Устами Дельфийского оракула бог назвал Сократа мудрейшим из людей, ибо только он один знал, что ничего не знает, потому и спрашивал16. Вся история философии (и наук, ее дочерей) вышла из этого открытия. То, что мы задаем вопросы, лучше всего отличает нас от животных, от компьютеров, от богов. Животные знают слишком мало, боги — слишком много, а компьютер не знает ничего. Он просто хранит информацию, как книга, и делает только то, что в него заложили — потому ни один компьютер не думает, ибо «думать» и значит «спрашивать». Сотни ученых об этом и не подозревают. Они всерьез уверены, что компьютеры мыслят, хотя все яснее ясного: а где же вопросы? Даже если вопрос в программе есть, компьютер не спросит об этой программе. Он подчинится ее приказу, задаст вопрос, но никогда не нарушит приказа, запрещающего спрашивать. Мы его нарушаем. Наша социальная программа говорит нам: «А вот об X не спрашивай», — и мы, к нашей чести и славе, немедленно спросим об X . Мы спрашиваем, потому что мы — творцы. Задавая вопрос, мы творим, вызываем его из небытия. Дело это опасно: то, что сотворено, обретает свою жизнь, идет путями, которые нельзя ни предсказать, ни подстраховать, — как Франкенштейн, как язык, как новорожденный младенец. Вопросы можно заглушить, убить их невозможно. Они духовны, у них — бессмертные души. Спрашивать о счастье опасно вдвойне, ибо это — вопрос основной, фундаментальный. Когда мы задаем основные вопросы, мы трогаем основание. Задавая обычные вопросы, мы поверяем и разбираем то, что сверху, а стоим на прочном фундаменте. А вот когда мы зададим вопрос фундаментальный, стоять нам уже не на чем. То, что мы считали камнем, стало песком; утесы уверенности обратились в барханы сомнения. То, о чем мы спрашиваем, повисло над пропастью — может быть, его на самом деле и нет17? Какой метафизический ужас скрывается в этом! Небытие весомо и реально, как слепота или смерть. Задавая фундаментальный вопрос, мы не только спрашиваем, мы ищем. Это — поиск, подвиг; без вопрошающего его нет18. Субъект и объект меняются местами; мы не только видим бездну, мы сами бездонны. Удивительно ли, что мы побыстрей выбираемся из нее, чтобы хоть чем-нибудь заняться, чтобы ее забыть? Говорят, первый индеец, увидевший Великий Каньон, привязал себя к дереву. Мы привязываем себя к маленьким, внешним миркам, испугавшись Великого Каньона в нас самих. Те же, кто хочет «познать себя», несмотря на все эдиповы страхи, станут искать, исследовать. Спелеологи сердца, спустимся вниз. А кролики пусть бегут домой. 1 К. С. Льюис «Рай» Страдание. 2 См.: Г. Дуйеверд Новая критика теоретической мысли: это — цент ральная мысль его антропологической системы. 3 Д. С. Милль «Эссе об этике» Утилитаризм. 4 Т. де Шарден Божественная среда 5 К. С. Льюис Исследуя скорбь. 6 См.: Г. Уиммер Философские учения Индии. 1951; X . Смит Религии человеческие. 1965. 7 Крифт перефразирует слова из Ромео и Джульетты: «...роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Пер. Б. Пастер нака. — Прим. пер. 8 Бл. Августин Исповедь, 1,1. 9 См.: Ennarationes in Psalmos , 127, 9. 10 Шекспир Макбет, акт 5, сц. 5. Пер. Ю. Корнеева. 11 И. Бергман Седьмая печать. 12 У. X . Оден Сентябрь 1939. Пер. М. Фрейдкина. 13 Н. Браун. Жизнь против смерти. Что такое история с точки зрения психоанализа? 1959. 14 См.: М. Магридж «Счастье» Иисус, открытый заново: «Невестка одного из друзей доктора Джонсона опрометчиво сказала при нем, что она счастлива. Он разбранил ее, громко возвещая, что если она и впрямь довольна своей жизнью, все искания человечества окажутся ложью. (...) Поиски счастья, включенные в Декларацию вместе с правом на жизнь и свободу как неотъемлемое право — самое пустое занятие, какое только может быть! Эти злосчастные слова повинны во многих бедах современного мира». 15 К. С. Льюис «Пока мы лиц не обрели». Пер. И. Кормильцева. Иностранная литература, 1 (1997), с. 80-190. 16 Платон Апология Сократа, 20с — 23в. 17 См.: М. Хайдеггер Фундаментальный вопрос, «Введение в метафизику» 18 См.: Г. Марсель «Об онтологической тайне» Философия экзистенциализма. Нью-Йорк, 1956, с. 15-19: ср. различие между «проблемой» и «тайной»: «Есть ли "бытие"? Что это такое? Как только мы зададим вопрос такого рода, пропасть откроется под ногами: а я, вопрошающий, могу ли быть уверен, что существую? Нет, конечно, "я", формулирующий проблему, должен оставаться вне ее — но до нее или после? Опять не то... субъект (...) по определению не может быть объектом мысли (...) есть, на самом деле есть тайна познания (...), о которой не скажет ни одна гносеология, ибо всегда ее подразумевает. Тут мы начинаем различать разницу между проблемой и тайной. Тайна — это проблема, которая посягает на собственные основания». |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|