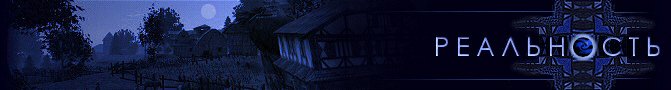
|
|
|
|
|
|
|
|
С.Л. ФранкРеальность и человекМЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ Реальность.ru / Книги / С.Л. Франк / Реальность и человек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
5. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. НЕТВАРНОЕ НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВАТолько что выше было отмечено, что мистика всех времен и народов — и в том числе и христианская — признает присутствие Божества в человеческой душе. Но та же мистика дает опытное подтверждение и общему выводу, к которому мы пришли, о двойственности человеческой природы именно в ее отношении к Богу. Традиционная рационально-религиозная (или просто религиозная в узком смысле слова) мысль рассматривает человеческое существо во всей его целостности как существо тварное, принципиально отличное от Бога и сущее в отчетливой отдельности от него, и отношение между человеком и Богом как отношение чисто и только трансцендентное. Мы видели, что это воззрение, поскольку оно претендует быть исчерпывающим, приводит к безвыходным противоречиям. Но параллельно с ним в течение всей истории религиозной мысли идет тип мысли, называемый мистическим. Поскольку он сочетается с монотеизмом (не только христианским, но и ветхозаветным и магометанским — например, в Кабале и в великой арабско-персидской мистике) и потому не допускает, подобно индусской мистике, совершенного растворения человеческой личности в Боге, а сохраняет различие между человеком и Богом и их раздельное бытие, — оно исповедует двойное отношение между человеком и Богом — одновременно и трансцендентное, и имманентное. И вот именно в этой связи оно утверждает учение о двух слоях человеческого духа — слое, в котором человек имеет Бога в самом себе, в потаенных глубинах своего духа, как имманентную основу своего собственного существа. Это учение о двух слоях человеческого духа — как бы о двух душах в составе внутреннего бытия человека — проходит через всю историю монотеистической мистики и выражено также у ряда мистически настроенных поэтов (1). Оно восходит к ап. Павлу, Тертуллиану, Плотину, Августину и Дионисию Ареопагиту, встречается у Hugues et Richard de St . Victor *, есть основа мистического учения Meister Eckhart' a и всей родственной ему немецко-нидерландской мистики 14—15 веков и отчетливо выражено у св. Терезы и св. Francois de Sales . Приведем лишь немногие образцы. Все учение ап. Павла о живущем в нас Христе (или Св. Духе) предполагает такую двойственность человеческой души; ибо, призывая человека жить в соответствии с тем его существом, в котором он есть носитель Христа или Святого Духа, оно, очевидно, отличает человека как автономное существо от его освященных присутствием Бога глубин. То же отношение выражает Тертуллиан (De testimonia animae**), говоря, что всюду, где душа «возвращается к себе и обретает свое естественное здоровье, она говорит о Боге», или, в иной формулировке: «Нет такой человеческой души, которая, озаренная ей самой присущим светом, не провозглашала бы Бога, хотя, о душа, ты не ищешь познать Бога». Мы уже приводили выше в другой связи слова Августина, что Бог живет в глубине человеческого духа или что Бог «всегда был у меня, только я сам не был у себя», — что подразумевает различие между одним «я», способным уходить от другого, глубинного «я». Особенно отчетливо эта двойственность выражена в немецкой мистике, подчеркивающей наличие в душе особого начала, отличного от ее обыденного, общеизвестного существа; это начало обозначается как «высшее в душе», «нутро» или «последняя глубина» духа, «святая святых» души или живущая в ней «искорка» (Эккарт). Точно так же св. Тереза говорит о «духе» или «центре» души и учит, что между «духом» и «душой» есть реальное различие. St. Francois de Sales называет это «высшее начало» «fine pointe de l'ame » — «место единства нашего духа с духом Бога»; он различает в составе души «Сару» и «Агарь». Первую, высшую часть он признает «в некотором смысле сверхчеловеческой» («en certaine facon surhumaine»). В ней благодать пребывает неизменно и незаметно для нас (2). Существенно подчеркнуть, что эта двойственность совсем не совпадает с общепринятым различием между человеком как плотским существом или психофизическим организмом и «душой» или «духом» человека — с тем различием, которое мы сами имели в виду, говоря о двуединстве существа человека. Деление, напротив, проходит в пределах того, что в общем смысле называется «душой»; оно усматривается в составе внутреннего самобытия человека. Современный французский поэт Paul Claudel и швейцарский психолог Jung различают эти два слоя как «animus» и «anima» (смысл этих обозначений уяснится нам тотчас ниже) (3). Мы берем исходной точкой нашего обсуждения этой темы формулировку, которую это соотношение нашло в особенно выразительных словах поэта Walt Whitman'a : «Я не могу понять этой тайны, но мое сознание повторяет мне, что я — двое: есть моя душа и есть я (4). Что может подразумеваться под этим различием между «мной самим» и «моей душой»? Ближайшее указание на это дает намеченное нами выше (гл. I , 2—4) различие между обычным самосознанием человека, выражаемым в слове «я», и восприятием своего внутреннего мира как некой полноты, реально живущей во мне и мне открывающейся (как было там указано, такое восприятие есть явление относительно редкое и исключительное и носит характер некоего откровения или мистического опыта). «Я» есть чистый субъект — субъект познания и мысли и субъект автономной, изначальной воли, — некая бессодержательная точка, существо которой исчерпывается тем, что она есть «носитель» моего умственного взора, моих волевых устремлений. Напротив, моя «душа» в качестве живущей во мне реальности, не предстоя моему взору как объект в обычном смысле и потому отличаясь от всего мира «объективной действительности», все же есть нечто, с чем я как-то встречаюсь во внутреннем опыте, что мне как-то «открывается» внутри меня самого. Иначе говоря, всякая попытка уяснить категориальный характер того, что в этом смысле можно назвать «моей душой», свидетельствует, что обычные категории трансцендентности и имманентности, или субъекта и объекта, сюда неприложимы или что «моя душа» в качестве реальности превосходит их и как-то сочетает в себе. Но именно этим определяется совершенно различное отношение, в котором стоят к Богу мое «я» и то, что мы условились называть «моей душой». Для меня как субъекта самосознания Бог есть инстанция чисто трансцендентная, извне противостоящая мне. Хотя, как мы знаем, Бог не принадлежит к составу объективной действительности, а относится к сфере сверхмирной реальности, но Он противостоит мне, находится вне меня и вместе с тем инороден мне на тот же лад, как и «объективная действительность» (чем и объясняется легкость смешения Бога со сферой «объективной действительности»). Напротив, для моей души как реальности — как некой глубины, сущей во мне и мне открывающейся, — Бог, оставаясь чем-то иным, чем я сам, — имманентен, живет «во мне». Ибо реальность, будучи всеобъемлющим и всепронизывающим единством, не может вообще иметь что-либо вне себя. «Иметь» и «быть тем, что имеешь» в ней совпадают — что, однако, как-то совместимо с делением реальности на разные сферы. Поэтому отношение моей души как реальности к Богу может быть с одинаковым правом выражено либо как присутствие Бога во мне, либо как моя укорененность в Боге и слитность с Ним. Именно в этом смысле Бог, как мы уже говорили, в качестве трансцендентной мне инстанции есть имманентная основа моего собственного существа. Но этим же объясняется соотношение между двумя указанными позициями человека в отношении Бога, или между мистическим опытом и обычным рационально-религиозным восприятием Бога как трансцендентной реальности. Соотношение это совершенно то же, что уяснившееся нам (гл. I , 5) общее соотношение между реальностью и объективной действительностью. Чтобы было вообще возможно внешнее отношение, — познавательная направленность субъекта на объект, — необходимо, чтобы до и независимо от этой направленности познавательного взора и его соприкосновения с объектом мы как-то непосредственно «имели» этот объект, без чего само его понятие — понятие вне нас сущей действительности — было бы невозможно. Мы имеем его, потому что и мы сами, и этот объект исконно и неразрывно связаны в всеобъемлющем и всепронизывающем единстве реальности; именно поэтому мы имеем и то, что нам (познавательно) не дано, знаем о бытии объекта там и тогда, где и когда мы его не воспринимаем. На этом единстве основано само понятие трансцендентного бытия (ср. гл. I , 5). Но совершенно то же самое имеет силу в отношении к Богу — с той только разницей (не изменяющей существа соотношения), что направленность здесь — не столько познавательная, сколько эмоциональная и волевая. Чтобы иметь саму идею Бога как трансцендентной, внешней нам реальности, чтобы сознавать себя субъективным человеческим духом, который, трансцендируя свое природное существо, стоит в отношении к Богу, устремлен на Бога, мы, до и независимо от этой установки, должны не познавательно или субъективно, а онтически, в самом нашем бытии и существе, иметь первичную неразрывную связь с Богом — иметь опыт Бога, слитый с опытом нашего собственного бытия и неотделимый от него, т. е. иметь Бога в этом смысле имманентно в нас самих. Глубина моей души — моя душа, поскольку она укоренена в Боге или имеет Бога в себе, — как бы молчаливо, по большей части бессознательно для меня самого — передает это свое первичное знание Бога, равнозначное Его собственному присутствию во мне, наружному, поверхностному слою моей души, моему рациональному самосознанию, и только в силу этого мое «я», в его отличии и в его раздельности от Бога, может производно иметь Бога как трансцендентную инстанцию, ориентироваться на Него, сознавать свою обязанность Ему повиноваться, т. е. иметь трансцендентное мерило своей жизни. То, что мы назвали мистическим опытом, есть — все равно, сознается ли это или нет, — основа того, что в узком, специфическом смысле называется религиозным опытом. Но то же самое соотношение между первичным и производным моментом имеет силу и в применении к самим носителям этих двух отношений к Богу. «Я», как субъект самосознания, как изначальная точка, как автономное существо, в некотором смысле производно от той глубины моей души, в которой я слит с Богом. Только потому, что я есмь или во мне живет эта таинственная глубина, я есмь нечто иное, чем просто природное существо, — нечто иное, чем вещь, совокупность качеств и процессов, даже нечто иное, чем просто «одушевленное существо»; только в силу этого я есмь именно я — автономный субъект, центр некой изначальной мысли и воли. Если я обычно этого не замечаю и если в особенности типичный для нового времени индивидуализм благоприятствует забвению и отрицанию этого соотношения, то это ничего не меняет в существе дела. То, что я сознаю как мое «я», есть по существу не что иное, как производное отражение, проецированный вовне образ моей глубины — как бы луч, бросаемый в сферу природного, «объективного» бытия глубинной богочеловеческой реальностью «моей души». Именно то во мне, что я испытываю как существо моего «я», — моя изначальность, моя способность трансцендировать все эмпирическое данное во мне и вне меня, способность судить и оценивать и весь мир, и меня самого в моей эмпирической данности, как и моя способность самоопределения, — все это истекает из укорененности глубины моего существа в Боге или из присутствия Бога в ней. Я свободен и изначален, я сам направляю мою жизнь, есмь творческая инстанция; более того, это бытие, как бытие творческой свободы, образует само существо моего «я». Но самый факт этого свободного самобытия — бытия в качестве «я» — не рождается, так сказать, самопроизвольно, не порождает сам себя. Он трансцендентально определен извне, проистекая из тех глубин, в которых Бог живет и действует во мне. Через эти глубины Бог определяет мое бытие, но определяет его именно как свободное самобытие. Действие Бога во мне не уничтожает и не стесняет мою свободу, а, напротив, впервые порождает ее и выражается именно в ней. Мы снова возвращаемся к уясненному уже кардинальному положению: личность, «я», не есть замкнутая в себе, обособленная от всего иного, из себя самой почерпающая свою жизнь точка или маленькая сфера; она конституируется в своем своеобразии как «монада» именно тем, что есть излучение всеобъемлющей реальности. Это излучение проходит через глубины моего существа, в которых во мне самом, как «искорка» (чтобы снова употребить выражение Meister'a Eckhart'a ), живет нечто от подлинного первоисточника и центра реальности — Бога; это соотношение находит свое выражение или воплощение именно в том, что мое существо обретает характер субъекта, «я», производно-изначального центра бытия. Действенная сила, исходящая из этого глубинного слоя, не противостоит мне как чужая, извне на меня действующая сила, а, напротив, проходя сквозь центр моей личности или, вернее, впервые творя его, совпадает с моей собственной свободой. В этом — тайна первичного отношения между «благодатью» и «свободой»: благодать, «дар свыше», не противостоит моей свободе, а творит ее саму. Это конкретно обнаруживается в том, что, чем более человек укоренен в этой, уже выходящей за его пределы, глубине и живет и действует не самочинно-произвольно, а прислушиваясь к голосу этой глубины, тем в большей мере он есть подлинная личность, подлинно свободное творческое существо. Моя свобода и действие во мне благодати суть не две разнородные и внешние друг другу силы — в своем последнем, глубочайшем существе они суть два момента, две стороны одной и той же действенной реальности; они суть как бы выражения «мужского» и «женского» начала в исконно «андрогинном» существе человека, причем «Женскому», воспринимающему началу человеческого духа (anima) принадлежит онтологическое первенство перед мужским (animus): то самое, что как семя «благодати» воспринимается и таится в лоне души, выступает наружу как самостоятельное, из себя самого действующее существо, имеющее свою собственную жизнь. Отсюда мы получаем возможность более адекватно осмыслить и оценить рассмотренное выше разногласие двух установок, которые можно условно обозначить как «августинизм» и «пелагианство» (5). Взятые как исчерпывающие определения отношения между Богом и человеком, или между благодатью и свободой, оба они, как мы видели, несостоятельны и приводят к безвыходным противоречиям. Но взятые как выражения отношения, действующего в двух разных слоях, на двух уровнях духовного бытия, они оба оказываются правильными и легко согласимыми. Августинизм совершенно прав в своем утверждении, что в последней глубине единственная положительная творческая сила есть Бог и что человек — мыслимый вне связи с Богом, в своей отрешенности от Бога (как возможна такая отрешенность, об этом будет речь дальше) — есть совершенно бессильное существо. Он только не сознает отчетливо, что то, что мы имеем в виду, мысля «самого человека» — человека как самостоятельную, действенную инстанцию духовной реальности, — не есть что-то чуждое Богу, не есть в своей основе особая, инородная Богу инстанция, а есть именно порождение и своеобразное выражение самой творческой энергии Бога и что именно в этом качестве человек сам обладает творческой силой. «Пелагианство», со своей стороны, совершенно право, утверждая положительную реальность творческой человеческой воли и потому возможность и необходимость ее свободного сотрудничества с трансцендентной ей благодатной силой Бога; оно упускает из виду, что сама эта самостоятельность человека как носителя особой творческой воли есть отражение в наружном слое бытия глубинной богослитности человека. Можно сказать, что августинизм, сосредоточиваясь на глубинном слое человеческого духа, забывает о том, что этот слой порождает из себя тот иной, наружный слой, в котором человек как самостоятельное существо противостоит Богу и имеет Бога вне себя, тогда как пелагианство, сосредоточенное на одном лишь этом наружном слое, игнорирует ту богослитную основу человеческого существа, которым оно порождается и в котором находит свое единственное объяснение. Только синтез обеих установок — синтез сознания, что в моей глубине Бог есть все, а я — ничто или лишь пассивный восприемник и что в наружном слое моего бытия я сам есмь носитель истекающей от Бога творческой реальности и в качестве такового должен вступать во внешнее взаимодействие с Богом, — только этот синтез выражает антиномистическую полноту конкретного отношения. Фома Аквинский гениально выразил эту двойственность в простых словах: «Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога; мы должны действовать, как если бы все зависело от нас самих». Не нужно, однако, думать, что эта двойственность есть какое-то внутреннее раздвоение нашей личности. Она есть сверхрациональное двуединство — двойственность, всецело объятая и насквозь пронизанная нераздельным единством личности, нашей «самости». Она есть двойственность слоев в составе нераздельного единства личности. Чем более глубоко я ее сознаю, тем прочнее и глубже мое личное самосознание, мистический опыт сверхчеловеческой, богочеловеческой основы моего бытия впервые дарует мне целостность и устойчивость меня самого как личности. Это духовное состояние подобно значению в музыке спокойного, длительного, устойчивого басового сопровождения бурной, подвижной мелодии. Если мы выше, следуя формуле Walt Whitman ' a , назвали наружный слой нашего бытия нашим «я» — отождествляя его тому, что мы есмы, — а глубинный слой — нашей «душой» — тем, что мы имеем, — то такое обозначение — естественное для нормального, господствующего типа самосознания — все же имеет лишь относительное значение. Та глубина моей души, которую я отличаю от моего непосредственного самосознания, от моего «я», есть вместе с тем именно основа и корень, т. е. глубочайшее существо моего «я». Ибо в силу общего установленного выше (гл. I , 3) положения в области реальности я сам есмь то, что я имею. Усмотрение этой глубинной основы человеческого существа приводит к одному, весьма существенному общему выводу. Доселе мы пользовались общепринятым в господствующем религиозном сознании обозначением человека как «тварного духа». Под «тварностью», как мы уже упоминали, мы разумеем собственную безосновность чего-либо сущего, зависимость его собственного бытия от иной, внешней и инородной ему инстанции. Можем ли мы, после всего сказанного, считать человеческий дух всецело и без остатка тварным в этом смысле? Как известно, учение Мейстера Эккарта о божественной искорке в глубине человеческой души послужило основанием для обвинения его в том, что он еретически учит о нетварности человеческого существа. Все равно, правильно или нет это обвинение в отношении фактического содержания мысли самого Эккарта, — по существу, ответ здесь не вызывает сомнения. Мистический опыт и связанное с ним усмотрение глубинного, богосродного и богослитного слоя человеческой души означает прорыв сквозь чистую тварность и в этом смысле признание нетварного, сверхтварного начала человеческой души. Что бы ни говорило традиционное догматическое учение, непосредственный опыт сознания этого глубинного слоя говорит мне о наличии внутри меня самого, в составе моей души, чего-то безусловно прочного, чего-то вечного и потому «нетварного». Сознавая себя самого, мое «я», в неразрывной связи с этим глубинным слоем, я не могу воспринимать себя без остатка, как что-то шаткое, безосновное, зависимое в своем бытии от посторонней, внешней мне инстанции. То, что образует существо моей личности именно как личности, то, что я сознаю как «я» в отличие от моих непроизвольных, безосновно во мне возникающих и протекающих душевных состояний, я непосредственно испытываю как нечто нетварное — не как что-то, «сделанное» Богом, а как что-то, проистекающее от Него и в Нем укорененное. Конечно, мое бытие как-то мне «даровано»; оно не есть первичная, абсолютно-изначальная реальность. Оно есть именно моя связь с Богом, и его основание есть Бог. Но именно поэтому, в силу этой интимной связи, оно производным образом причастно вечности самого Бога. Только на этом непосредственном сознании вечности, неколебимой прочности моего «я» как чего-то в своей основе или в своем глубочайшем корне сущего в Боге основана неискоренимая вера в мою неуничтожимость, в бессмертие. Это совсем не значит обожествлять человека, отождествлять его с Богом. Ни одному человеку в здравом уме не может прийти в голову просто отождествлять Бога с человеком (явления обожествления человека, например монарха в древних восточных деспотиях, основаны были на ином, примитивном представлении о Боге, да и то никогда не понимались буквально). Прежде всего, эта вечность и нетварность относится только к самому моменту личности во мне, ко мне как личному духу, имеющему свою основу в глубинном слое моего существа и через него неразрывно связанному с Богом; она не относится ко мне как плотскому существу, включая все конкретное, чисто эмпирически душевное содержание моей жизни; вся эта последняя область моего бытия — с одной своей стороны входя в состав чисто природного бытия и с другой стороны — для моего самосознания — будучи безосновной, шаткой, чисто «субъективной», — не имеет в себе самой никакого прочного основания и потому должна восприниматься как чисто тварное бытие — как бытие, всецело зависящее от посторонней и внешней ему высшей инстанции. И, во-вторых, — что, быть может, еще важнее — не нужно рационалистически упрощать проблему, сводя ее к дилемме: есть ли человек (или хотя бы только высшее или глубинное начало в нем) «тварь» или «Бог». Для господствующего сознания (исходящего из этой дилеммы) все вообще, что не есть Бог, — все, конечное, ограниченное, частное, не безусловно совершенное — тем самым есть «тварь». (Ниже, при рассмотрении существа Божьего творчества, мы сами используем это широкое понятие творения.) Но такое широкое, расплывчатое определение понятия «тварь» упускает из виду одно существенное различие. Есть нечто, что, будучи «сотворенным» в этом обычном, широком смысле слова, т. е. отличаясь от самого Бога, происходя и завися от него, все же «нетварно» в том специфическом смысле «безосновности», безусловной инородности Богу и раздельности от него, в каком мы условились понимать смысл «тварности». В этом смысле нетварно все, что, будучи производным от Бога, остается все же богосродным и богослитным. Мы могли бы сказать, что в этом смысле глубинный слой человеческого духа есть в отношении Бога не его «творение», а его «эманация» — то, что из него «рождается» или «проистекает», — причем не следует забывать, что эманация есть не только частное и производное проявление Божества, но также (уже в новоплатоническом учении) проявление, качественно умаленное и видоизмененное. Этот глубинный слой человеческого духа, не будучи тождествен Богу и не составляя части Бога, стоит как бы в промежутке между «тварью» и Богом: он есть «что-то божественное» или, по выражению Francois de Sales , «сверхчеловеческое» в человеке (6). Во мне в качестве последней, глубочайшей основы моего собственного существа светит, как «искорка», луч, исходящий от центрального Солнца бытия. Суть дела состоит, очевидно, в том, что сверхрациональное соотношение между человеческим духом и Богом не может вообще быть адекватно разъяснено в простых логических категориях тождества и различия. Если человек есть явственно нечто иное, чем Бог, то — как мы это уже отметили в отношении реальности вообще — сама инаковость здесь — совсем иная, чем обычная категория логического различия. Можно было бы, пользуясь термином Гегеля, определить человеческий дух как инобытие (Anderssein) Бога. Собственная сущность Бога проявляется в лице человеческого духа в совершенно иной онтологической форме, как бы на ином, производном уровне бытия. Если господствующее представление о человеке как «образе и подобии Божием» мыслит соотношение так, что одна и та же или сходная форма существует здесь, так сказать, в совершенно разном онтологическом материале (как портрет, написанный красками на полотне, по сравнению с самим изображенным на нем живым человеком), то мы должны, напротив, сказать, что — выражаясь популярно — Бог и человеческий дух как бы сделаны из одного материала, имеют тождественную сущность, но существуют в двух разных категориальных формах — в форме первичного, актуального и бесконечного бытия в Боге и в форме производного, потенциального и ограниченно-частного бытия, как бы в миниатюре — в человеке. Конечно, и эта формулировка, будучи рациональной, только приблизительно выражает невыразимое сверхрациональное существо отношения. Луч, исходящий от центрального солнца мира, луч, который, не будучи сам солнцем, хранит в себе его сущность, — этот луч образует само существо моей личности; поэтому это существо не просто «сотворено», а «исходит» от Бога и в этой своей производности сохраняет свою внутреннюю слитность и свое сродство с Богом. Так ли «еретично» это воззрение, так ли противоположно оно церковно-признанному учению о существе человека, как это кажется на первый взгляд? Правда, нам предстоит еще разрешить с этой точки зрения труднейшую проблему — как это богосродное и богослитное существо может все же отпадать от Бога, «впадать в грех». И очевидно, что церковное учение боится, что идея богосродности и богослитности человека может умалить в нем необходимое сознание его греховности. Но если оставить пока в стороне эту проблему, то то самое отношение, что мы только что выразили в понятии «эманативного», богосродного и богослитного существа человека (в его глубинном слое), может, без всякого изменения его реального смысла, быть выражено и в вполне ортодоксальной форме. Человек, как таковой, есть тварное существо. Но Бог не ограничивается тем, что, «сотворив» человека, дарует ему особое — именно тварное — бытие вне Себя самого; Он сам нисходит и внедряется в глубине этого тварного духа, творит в ней себе «обитель» и тем освящает ее, делает ее чем-то большим и иным, чем просто тварное существо, — именно чем-то богосродным и богослитным. Человек становится в силу этого не только творением, но по «усыновлению» «сыном» или «чадом» Божиим. Эти, освященные писанием, термины выражают именно «эманационный» момент в существе человека — его «происхождение» или «рождение, от Бога» (рождение «свыше», «от Духа», в отличие от рождения из чрева матери, как сам Христос открыл это Никодиму). Остается, казалось бы, все же различие в понимании порядка последовательности этих двух «возникновений» человека; и традиционное воззрение склонно мыслить этот порядок так, что «сначала», и потому как бы первичным образом, человек просто «сотворен» и есть «тварь» и что лишь потом и производным образом он может стать «рожденным свыше» «чадом Божиим». Но не надо смешивать временной порядок развития человеческой души с сверхвременным существом отношения; человек не мог бы стать «чадом Божиим», если бы по существу он с самого начала не был бы им, не был бы так замышлен Богом. И в этом онтологическом порядке первенство принадлежит именно этому высшему существу человека как подлинной конечной цели Божьего замысла о человеке. Если осознание «рождения свыше», «с небес», есть акт веры, совершающийся в временном течении нашей жизни, и в этом смысле есть «второе рождение» (которое, кстати сказать, совсем не нужно мыслить, по примеру некоторых сект, как единократное и окончательное событие, а скорее, по общему правилу, как длительный процесс, допускающий перерывы и повторения, нарастание и упадок), то, в порядке онтологическом, это есть, напротив, первое, основоположное рождение — рождение, которое по своему метафизическому существу есть вечное рождение. В силу него одного только и возможно то каждодневное чудо, когда в составе природнорожденного психофизического организма появляется на свет то таинственное сверхприродное существо, которое мы называем человеческой душой, с ее потенциально-божественной глубиной. Необходимая двойственность между человеком и Богом, — иначе говоря, самый факт существования человека как особого, самостоятельного существа, отличного и отдельного от Бога, — не есть, как уже было указано, первичная категория, в которой мы должны мыслить это соотношение. Этот факт самостоятельного бытия человека как производно-изначального свободного существа есть именно обнаружение его богосродного и богослитного существа. Человек имеет «самость», сознает себя как «я», как изначальный действенный центр жизни не потому, что он имеет самоутвержденное, обособленное и замкнутое в себе бытие, а, напротив, потому что в его бытии производным образом отражается и выражается первичная изначальность Бога, из которого он проистекает и с которым в своей глубине неразрывно связан. Нить, связующая человека с Богом, сама по себе неразрывна; тогда как пуповина при плотском рождении человека должна быть перерезана, чтобы новорожденный мог начать свою самостоятельную жизнь, — здесь, в сверхвременно-духовном рождении, эта пуповина навсегда соединяет человека с лоном, в котором он утвержден; но сама кровь, непрерывно притекающая по ней в человека, такова, что именно ее питательной силой человек становится самостоятельной личностью, производно-изначальным действенным центром. Человек как «я», как сознательный свободный деятель есть как бы представитель богочеловеческого, глубинного существа человека в чужеродном ему царстве природы, объективной действительности. В этом качестве он есть свободный, имеющий независимое положение слуга Бога в сфере природного, мирского бытия. Как посланник, оставаясь подданным своего государства, членом своего народа, слугой своего правительства, живет в чужой стране и свободно, по собственному разумению, защищает в ней интересы своей родины — так человек в качестве чисто человеческого существа призван свободно осуществлять веления Божий, представлять свою богочеловеческую родину в царстве природного бытия. Подобно такому посланнику, он в своих действиях и в своем самосознании сочетает смирение в исполнении своих обязанностей с чувством своего достоинства как представителя своей великой богочеловеческой родины. На этой двойственности человеческого духа — с одной стороны, как существа, как бы вечно пребывающего в лоне Божием (или, напротив, таящего в себе, как в женском лоне, семя самого Бога), и, с другой стороны, как свободной личности, как ответственного автономного представителя Бога в мире, — основана неустранимая, определяющая всю его жизнь двойственность между сферой интимно-внутренней, богоосвященной его жизни и сферой самостоятельного, автономно-человеческого творчества, сознательного построения мира человеческой жизни. Этот мир человеческой жизни есть вся область человеческой истории и культуры, то, что обычно называется мирской его жизнью в отличие от сферы религиозно-освященного его бытия. «Мирская», сознательно творимая жизнь человека, с одной стороны, автономна — точнее, есть не что иное, как выражение его автономии, — и, с другой стороны, всецело опирается на тот слой его жизни, в котором человек есть уже не деятель, а пассивный восприемник и который не умышленно творится им, а непроизвольно живет и нарастает в нем. Подлинная граница между этими двумя сферами проходит в незримой глубине человеческого духа. Она не может быть отождествлена ни с каким эмпирически констатируемым различием сфер (например, церкви и светской жизни), или сословий (священства или монашества и мирян), или личной жизни и жизни общественной, а перекрещивается со всеми ими. Источник постоянной склонности человека к такому ложному, иллюзорному отождествлению этого незримого двуединства с какими-либо внешними различиями лежит не только в характере рациональной мысли, превращающей нераздельное двуединство в раздельную двойственность; последний источник этой иллюзии есть греховность человека, о котором мы будем говорить дальше. Уясним теперь двуединство человеческой природы еще с иной стороны, именно как оно выражается в человеческом творчестве. 1. Образцы этих учений собраны в упомянутой уже книге Н. Bremond , особенно т. VII, р. 48—59 и passim . Bremond называет это учение «lе dogme fondamental de l'experience mystique»*. Ср . также : Rufus Jones. Studies in Mystical Religion, и блестящий этюд «Anima» В . Иванова в немецком журнале «Corona», v. V (1934—1935), Heft 4. 2. Traite de l'amour de Dieu, цит. Bremond , VIII, p. 49***. В символическом обозначении этой двойственности употребляются два образа: слой души, стоящий в интимно-имманентном отношении к Богу, называется то «высшей» частью, «вершиной» души, то, напротив, ее «глубиной» или «нутром». Первое обозначение определено сознанием высшей ценности этой части души, отношением человека к своим духовным борениям как к чему-то, на что он смотрит «сверху вниз»; второе определено сознанием большей удаленности, отрешенности этой части человеческой души от внешнего мира, а также восприятием ее как основы человеческого бытия. Существо отношения не затрагивается этим различием обозначения. 3. Ср. также указанный этюд Вячеслава Иванова. 4. Bremond, 1. с, р. 49—50. 5. Мы имеем, таким образом, здесь в виду не исторически точное содержание учений Августина и Пелагия, а два общих типа мысли, из которых одно отрицает, а другое утверждает положительную ценность самостоятельного бытия человека как носителя свободной творческой воли. В частности, в состав установки, которую мы условились обозначать как «пелагианство», войдет вполне ортодоксальное учение о сотрудничестве (синергизме) свободы и благодати как двух самостоятельных инстанций. 6. У Максима Исповедника встречается формула: «Не избожествен человеческий дух». |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|
2003-2007 Alter Ego, Церковь в Москве, mail@realnost.ru