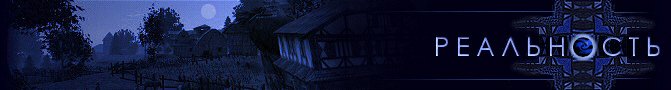
|
|
|
|
|
|
|
|
С.Л. ФранкРеальность и человекМЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ Реальность.ru / Книги / С.Л. Франк / Реальность и человек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
3. ДВЕ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ. ЗАДАЧА ОГРАЖДЕНИЯ ЖИЗНИ ОТ ЗЛА И ЗАДАЧА ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРЕХАГоворя выше (гл. IV, 5) о двойственности человеческого духа, мы указали, что она ведет к двойственности сфер человеческой жизни, — к различию между сферой чисто человеческого бытия, в которой человек есть активный деятель, построяющий жизнь своей автономной умышленной волей, и сферой бытия богочеловеческого, внутренне освященного, в которой человек есть как бы лишь лоно, воспринимающее и отражающее действие в нем Бога, и в которой происходит процесс непроизвольного прорастания в нем благодатных сил. Но мы указали также, что, по существу, граница между этими двумя сферами проходит лишь через незримые глубины человеческого духа и что превращение этого незримого двуединства в явственную эмпирическую двойственность между «мирской» и «священной» сферой человеческой жизни есть не только рационалистическое упрощение, но и прямое искажение богочеловеческого двуединства, обусловленное греховностью человека. Теперь мы можем точнее уяснить это соотношение. Автономная человеческая воля и ее осуществление в умышленной человеческой активности есть по существу, как мы знаем, выражение свободного выполнения воли Божией, т. е. выражение связи человека с Богом, действия Бога через человека. Будучи осуществлением абсолютных ценностей (или выполнением творческого призвания), она не менее священна, чем интимное, как бы не зависящее от человеческой воли действие благодатных сил в глубине человеческого духа. Эта двойственность есть лишь выражение двух сторон отношения между человеком и Богом, одновременно и нераздельно и трансцендентного, и имманентного, — причем первое из них имеет свою основу, как мы знаем, в последнем. Если бы человек был безгрешен, т. е. если бы фактически его состояние соответствовало его истинному существу, вся жизнь человека была бы религиозно освящена, составляла бы гармоническое богочеловеческое единство, лишь выраженное в двоякой форме: Бог действовал бы сам в человеке, и Бог действовал бы через посредство свободной человеческой воли как самостоятельного агента, порождаемого именно его богослитной глубиной. Нечто подобное мы видим и теперь в самой молитвенной жизни, в конкретном богообщении человека: его глубина есть погруженность человека в Бога, мистическое единство с Богом, в котором человек есть пассивно воспринимающий элемент; ее наружная сторона есть соответствующая активность человека, которая через дисциплину, аскезу, активное сосредоточение внимания — словом, через свободную волю человека — осуществляет молитвенную жизнь — причем само это вольное человеческое устремление к Богу сознается как «дар Божий». Но фактически человек есть греховное существо. Наряду с автономной волей, выражающей его связь с Богом и ориентированной на Бога, он обладает еще самочинной волей, которая сама есть условие греха и которая влечет его к греховным действиям, разрушая или по крайней мере повреждая нормальную, гармоническую основу его бытия. Эта самочинная воля образует некую сторону его жизни, в которой он отделен от Бога и тем самым антагонистически противостоит Богу; будучи онтологически беспочвенной, она все же фактически реальна. Эта самочинная воля конкретно неотделима от подлинного онтологического ядра человеческой свободы — его богоданной автономной воли. В силу этого и в силу универсальности греховной порчи человека конкретная воля человека всегда двойственна: ее онтологическое существо есть богоданная и ориентированная на Бога автономность; и к этому существу нераздельно примешана греховная самочинность. Именно это конкретно неразделимое единство законной автономности и незаконного самочиния в человеческой воле образует конкретное существо эмпирического человеческого бытия. И выражением его является то, что называется «мирской жизнью» человека. Мирская жизнь есть именно неразделимое сочетание вольного стремления к добру с невольным («самочинным») впадением в грех; в ней отражается и безосновная, субъективная, греховная воля человека, и неустанное стремление автономной, богоданной воли обуздать, подавить, устранить хаотическую игру грешных побуждений и ее гибельные для жизни последствия. Именно в этом смысле мирская, «чисто человеческая» жизнь отчетливо выделяется как особая сфера, противостоя духовной жизни человека — внутренней потаенной сфере жизни в общении с Богом — сфере сакрального, богоосвященного, теономного его бытия. Так как подлинная грань между этими двумя сферами проходит, как уже было указано, в незримой глубине человеческого духа, то эта раздельность распространяется и на личную жизнь человека, и на его коллективную жизнь — его историю и культуру. В своей личной жизни человек (по крайней мере, не потерявший подлинного своего существа) посвящает часть своего времени и своих сил осуществлению своих мирских, земных интересов, одновременно контролируя свои действия совестью, а другую часть — молитвенной и вообще духовной жизни — духовной самопроверке, культивированию и развитию своей личности, своего духовного существа. В коллективной, исторической жизни и культуре человека этому соответствует разделение, обозначенное в Евангелии как различие между «кесаревым» и «Божиим»: различие между сферой внешнего, технического и организационного устройства жизни (государство, право, хозяйство) — сферой, в которой осуществление мирских интересов сочетается с нравственно-правовым контролем над анархическими стремлениями, — и сферой духовной культуры как коллективного проявления духовного существа человека; эта последняя сфера выражается и в творчестве (художественном, научном, философском и религиозном), и в коллективном блюдении священной богочеловеческой основы человеческого бытия — блюдении, составляющем задачу церкви. Но в личной жизни человека, в которой его существо как бы непосредственно явственно, проблематика отношения между этими двумя сферами — на практике иногда очень мучительная — в принципе разрешается относительно легко, как бы сама собой; напротив, в коллективной жизни человека это соотношение имеет как бы имманентную склонность затемняться и искажаться, а именно: раздельность этих двух сфер легко заменяется здесь их смешением. Как указано, эта раздельность есть итог греховности человека, его самочинной, мнимой свободы. Устранение этой раздельности предполагает поэтому безгрешность человека, окончательное, сущностное уничтожение в нем греховного начала; только при этом условии Бог может действительно стать «все во всем» — и человеческое бытие стать гармоническим и всецело богочеловеческим. С другой стороны, попытка смешения или слияния этих двух сфер или отрицания их раздельности, при наличии непреодоленного греховного начала в человеке, есть не совершенствование жизни, а, наоборот, впадение в новый, худший грех. Мы знаем, что при наличии греха сознание своей греховности и тем самым практическое учтение реальности греха есть показатель присутствия и действия в человеке благого, превозмогающего грех начала, тогда как игнорирование и отрицание греха означает, напротив, захваченность и порабощенность им человеческого сознания. Везде, где человек мнит сам, своими собственными усилиями и умышленными действиями сполна освятить свою жизнь, достигнуть в ней совершенства, отвергая или игнорируя различие и раздельность между мирской и освященной сферой, он впадает в эту иллюзию игнорирования реальности греха, сознания себя безгрешным. Эта иллюзия возможна в двух разнородно обоснованных, но практически сродных формах. Первая из них была весьма влиятельна преимущественно в прошлом, именно во всех формах непосредственного теократического устройства жизни, т. е. в попытках ввести такой порядок жизни, в котором жизнь была бы автоматически и принудительно подчинена священному началу в человеке. Какая-либо человеческая инстанция или какая-либо группа людей признается при этом богоизбранной — адекватным воплощением богочеловечности, безупречно святым и потому безусловно авторитетным орудием и откровением Божией воли — и в этом качестве стремится властвовать над миром с целью его всецелого, окончательного освящения. Эта вера была в средние века выражена и в идее папской теократии, и во многих еретических сектах «чистых», «духовных» людей; она с новой силой вспыхнула в крайних течениях Реформации — в движении Томаса Мюнцера, в анабаптизме и пуританстве. Другая форма той же иллюзии, овладевшая человеческим духом в новое время вплоть до наших дней, есть рассмотренная нами уже выше (гл. IV , 2) абсолютизация человека (в оптимистическом гуманизме и в титаническом богоборчестве). Это духовное направление стремится чисто мирскими средствами достигнуть совершенства и праведности жизни и на этом пути устранить раздельность между «мирской» и «священной» сферой жизни. На достигнутой нами теперь стадии нашего размышления мы можем выяснить точнее, в чем состоит ложность этого пути. Чтобы отчетливо понять невозможность чисто человеческой, умышленной активностью преодолеть грех по существу (и тем самым устранить раздельность «мирской» и «священной» сфер жизни), надо уяснить условия и существа умышленной, действенной борьбы человека с нравственным несовершенством жизни. Эта борьба необходимо отражает на себе самой начало греховности, и притом в двояком отношении. Прежде всего, как указано, автономная воля — стремление к добру и правде — практически неотделима в душевной жизни от воли самочинно-греховной; конкретно к ней всегда примешивается элемент субъективности, произвольности, корысти, гордыни и пристрастия. Праведное моральное негодование неразличимо слито со злобой, ненавистью и местью и легко в них вырождается, бескорыстная борьба против проявлений зла, активное противоборство злу незаметно переливаются в греховное властолюбие, в гибельный деспотизм и т. д. Замысел несовершенного человека своими собственными силами, хотя и устремленными на благую цель, достигнуть совершенства своей жизни столь же несостоятелен и внутренне противоречив, как попытка барона Мюнхгаузена вытащить самого себя за волосы из болота. Исторический опыт всех духовно-общественных движений, направленных на эту цель, подтверждает это: все они, вслед за эпохой начального воодушевления, когда они были в общем благотворны, вырождаются, плененные греховными силами властолюбия и корысти, переходят в состояние, когда лозунги добра и святыни становятся лишь лицемерным прикрытием греховных человеческих вожделений, и жизнь не только не совершенствуется, а, напротив, начинает еще больше страдать от господства зла. Это ближайшим образом характерно для господствующих в новое время революционно-утопических стремлений, в которых человек, как чисто мирское существо, мечтает осуществить в устройстве своей жизни своими собственными средствами полноту добра и правды. Но то же имеет силу в отношении иной, указанной выше, формы непосредственного, принудительно теократического устройства в жизни. Если по своей идее она есть замысел подчинения всей человеческой жизни Богу, абсолютной святыне, то конкретно-практически она обнаруживается так же как грех человеческой гордыни и самопревознесения. Эта гордыня содержится в самой идее, что определенная человеческая инстанция есть адекватное выражение Божьей воли, воплощение самого существа Святыни. Подлинная воля Божия действует только в незримых глубинах человеческого духа, не принудительно и извне воздействуя на нее, а, напротив, отчасти конституируя само существо подлинной человеческой свободы, отчасти же свободно привлекая человеческую волю своим внутренним обаянием, своим благодатным влиянием. Напротив, везде, где человек берет на себя функцию адекватного представителя воли Божией, он фактически примешивает к этой воле свою собственную самочинную, греховную волю. Ни церковь, ни монашество, ни какая-либо секта истинных «духовных христиан» не свободны от этого греховного начала; все они одинаково подвержены опасности вырождения. Другая сторона этого смешения заключается в том, что попытка извне человеческой активностью — даже поскольку она остается субъективно-праведной — преодолеть грех и зло человеческой жизни не учитывает того, что грех и зло имеют некую внутреннюю, духовную сущность, не поддающуюся вообще внешнему воздействию. В силу неустранимости этой внутренней, истекающей из свободы человека сущности зла внешняя борьба со злом необходимо носит характер принуждения — ближайшим образом морального принуждения через внушение страха или стыда перед общественным мнением, но в конечном итоге принуждения физического, иногда — как, например, при полицейских действиях или в оборонительной войне — доходящего до убийства носителя злой воли. Но принуждение, как таковое, само есть объективно греховное действие, хотя бы оно исходило из субъективно праведного мотива, ибо оно есть нарушение богоданной свободы человеческой личности, выражающей его богосродное существо. В силу власти греха человек, таким образом, поставлен в трагическое положение; в своей внешней, умышленно-человеческой борьбе с грехом он морально вынужден прибегать к греховным средствам. Закон, власть, государство — и даже суровая, извне налагаемая и выраженная в общих нормах моральная дисциплина — все формы и выражения принудительной организации жизни, принудительной внешней борьбы со злом и грехом — в этом смысле сами греховны и потому бессильны преодолеть и уничтожить само существо греха. Чтобы уяснить и правомерность такой внешнепринудительной, умышленной человеческой борьбы с моральным злом, и естественную ограниченность ее задачи (за пределами которой она уже неправомерна), надо вспомнить отмеченную нами выше (гл. V , 1) двойственность областей обнаружения греха. Грех, по своему существу относящийся к человеческой воле, к внутреннему строю души, обнаруживается в человеческих действиях, в отношениях между людьми. В этом последнем своем обнаружении он есть не только моральное зло, зло неправедности, но, разрушая и портя жизнь, — есть зло-бедствие, источник несчастья для других людей. Корысть, злоба, ненависть, эгоизм, властолюбие, жестокость — все это отравляет и губит человеческую жизнь. Человек имеет поэтому нравственную обязанность противостоять этим проявлениям зла, оберегать жизнь от гибельных последствий. Это практически невозможно без применения принуждения. Арестовать вора и насильника, поставить внешнюю преграду эгоистическим действиям, причиняющим страдания другим людям, — словом, всеми доступными мерами обезвредить преступную волю — есть нравственный долг человека; и в этом и заключается умышленная, внешнепринудительная борьба со злом. Задачу этой борьбы со злом нужно, однако, отчетливо отличать от совершенно инородной ей задачи сущностного преодоления греха. Внешняя, принудительная борьба с проявлениями злой воли может устранить или уменьшить страдания и расстройство жизни, причиняемые злой волей, но она ни в малейшей мере не преодолевает саму греховную волю. Обезвредить преступника или устрашением обуздать его злую волю есть дело суда и полиции; внутренне перевоспитать его, вырастить в нем благую волю, есть дело священника или наставника или, точнее говоря, дело самого внутреннего, свободного богочеловеческого существа грешника, которому священник и наставник могут только содействовать. Никакое принуждение не уничтожает сущностно ни атома зла; даже физическое истребление преступника не в состоянии это сделать, ибо, порождая месть и озлобление в других, оно увековечивает зло; пламя греха, потушенное в одном месте, может перескочить и возгореться в другом. В этом — смысл учения Христа о непротивлении злу силой. Ибо грех, будучи как бы сущим небытием, преодолевается только через прорастание в человеческой душе ее онтологической основы — святыни. Он исчезает сам собой перед добром и любовью, как тьма рассеивается светом. Один из постоянных соблазнов человеческого стремления к совершенствованию коллективной жизни, к насаждению в ней добра заключается в смешении этих разнородных задач. Задача внешнего, умышленного ограждения жизни от зла мерами организационно-принудительного ее устройства настолько настоятельна и неотложна, что человек на этом пути склонен забывать о другой, более основной своей задаче — сущностного преодоления самого источника бедствий, именно греха. Он часто либо смешивает эти две разнородные задачи, либо же идет еще дальше: сосредоточивая всю свою заботу исключительно на облегчении и уменьшении человеческих бедствий и страданий, он вообще теряет сознание, что их источник лежит в злой воле, в греховности человека. Тогда стремление к совершенствованию теряет вообще свою моральную и тем самым религиозную основу; совершенствование понимается просто как чисто мирская, эмпирическая — можно сказать — техническая задача спасения человека от страданий и бедствий. Конечно, есть такая сторона человеческой жизни, в которой бедствия человека совершенно независимы от его греховности, а суть простое следствие того, что он есть природное, подчиненное природным силам существо; и вполне правомерна, конечно, задача помочь человеку избавиться от этих бедствий. Но цель общественного строительства, организации правильных отношений между людьми никак не исчерпывается этой чисто технической стороной дела. Общественный порядок должен быть не только целесообразным — в смысле наилучшего удовлетворения земных нужд человека, — но и праведным; и притом праведная организация морально-волевого механизма общественного порядка есть основа и необходимое условие всей иной, технической его целесообразности. Право и государство подчинено не только идее порядка, но, прежде всего, идее справедливости, моральной правомерности. Но именно здесь обнаруживается ограниченность задачи принудительно-организационного устройства жизни. А именно: она не может непосредственно затрагивать внутреннюю, духовную жизнь человека и распространяться на нее, ибо существо этой жизни есть, как мы знаем, действие Бога в человеческой душе и имеет свое непосредственное выражение в автономии человеческой личности. А так как конкретно, как было указано, автономная воля неотделима от воли самочинной (они различимы и должны быть различаемы только во внутреннем самосознании, в самой духовной жизни человека), то свобода личности — включая свободу греховной воли — есть незыблемая сфера, на которую не распространяется никакое внешне организационное принудительное вмешательство. Государство и право должны ограждать жизнь от гибельных последствий греховной воли, ограничивать свободу действий, но не могут заниматься задачей внутреннего перевоспитания человека, которое есть дело только его автономной воли — и Бога. Единственное, что может и должно здесь делать право и государство, — это, не касаясь непосредственно нутра человеческой души, создавать внешние условия, наиболее благоприятные для свободного внутреннего самосовершенствования человека, для прорастания в нем его богосродного и богослитного существа. Забота по существу об этой внутренней духовной жизни, о нравственном совершенствовании есть дело в первую очередь самой этой духовной жизни в индивидуальном самосознании человека и во вторую очередь той коллективной духовной жизни в святости, которая называется церковью (включая сюда функцию пророчества и наставничества в самом широком смысле, в котором она охватывает всякое духовное водительство) (1). Государственная власть, будучи извне суверенной — в том смысле, что она есть высшая инстанция человеческой власти, — изнутри не самодержавна, а ограничена священной, неприкосновенной для нее сферой свободы личности — свободы личной инициативы, только внутри которой может успешно совершаться борьба между нравственной волей человека (творимой и вдохновляемой Богом) и греховной, самочинной, мнимо-свободной его волей. Человечество постоянно поддается соблазну смешать внешнее верховенство государственной власти с ее внутренней неограниченностью и самодержавием. Здесь, однако, надлежит помнить бессмертные слова Августина: «Вне справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки» (remota justitia, quid sunt regna, si non latrocinia magna). Государство, мнящее себя верховным властелином человеческой жизни, есть одно из самых страшных и гибельных проявлений человеческой гордыни — демонизма в человеческом бытии. Оно становится тогда, по слову Ницше, «холоднейшим из всех холодных чудовищ». Живое воплощение этого демонизма есть идея и практика «тоталитарного» государства. И не нужно думать, что какие-либо опять-таки чисто организационные меры, т. е. какие-либо определенные формы государственного устройства, — как бы полезны они ни были, — могут сами по себе автоматически преодолеть этот демонизм. Не нужно забывать, что эти меры осуществляются живыми людьми и что поэтому их благотворность зависит сама в конечном счете от нравственного духа и веры людей, их осуществляющих. Решающим здесь может быть только неколебимо твердое и ясное сознание различия между задачей внешнего ограждения жизни от зла и задачей сущностного преодоления греха и вытекающее отсюда сознание неприкосновенности и свободы внутреннего, богочеловеческого существа человека. Государство, и всякий светский союз вообще, создавая относительно наилучшие внешние формы человеческой жизни, никогда не может ставить себе задачу спасения человека. Это спасение человека, превышая человеческие силы, есть дело только Бога (при смиренном соучастии внутренней, богоопределенной духовной активности человека). В этом смысл христианского учения об искуплении. Отсюда следует, что есть одна область человеческого творчества, которая — вопреки сказанному выше о принципиальном отличии творческой воли самочинной и греховной — имманентно, по самому своему существу, находится в опасном соседстве с демонизмом. Это есть творчество государственно-политическое. Сама по себе политика есть законная и необходимая сфера человеческого творчества, и в ней есть настоящие творческие гении. Создание новых, лучших форм общественной жизни есть естественная цель творческой воли человека. Но материал этого творчества суть живые люди; а человек, как мы знаем, есть не просто тварное существо, а существо богосродное и в этом смысле сам есть святыня. А орудие политического творчества есть власть над людьми, принудительное воздействие на них, которое, как мы видели, как таковое, уже содержит элемент греховности. С обеих этих сторон — и в своем материале, и в орудии своего действия — политическое творчество, чтобы быть подлинно правомерным, должно само ограничивать себя. Оно постоянно рискует либо впасть в грех безграничного распоряжения человеческими жизнями (даже руководясь благим намерением улучшения, совершенствования человеческой судьбы), либо впасть в еще худший грех отожествления самочинной, беззаконной воли властителя с его автономной нравственной волей. Всякая власть развращает, невольно склоняет человека к самообоготворению, к сознанию дозволенности для него всего. Вот почему даже подлинно великие государственные деятели так часто одновременно бывают преступниками и тиранами; и, с другой стороны, преступники, достигающие власти, часто кажутся великими, дерзновенными и вдохновенными политическими творцами. Нужно глубокое, подлинно религиозное смирение, чтобы быть подлинным государственным деятелем — чтобы осуществлять политическое творчество, не впадая в грех и не губя жизни. 1. Конечно, деление это не так просто, как оно намечено в этой общей схеме. Так как оно, как не раз было указано, по существу проходит через незримые глубины человеческого духа, то и церковь — даже в намеченном здесь широком общем смысле — имеет свою чисто «мирскую» сторону, — именно поскольку в нее входит момент организации, права и управления. Этим не устраняется, однако, то существенное отличие ее от государства, что подчинение ей человеческих душ добровольно и основано на свободном признании ее внутренней авторитетности. Отсюда явствует, что всякая принудительная теократия есть коренное извращение самой идеи церкви. |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|
2003-2007 Alter Ego, Церковь в Москве, mail@realnost.ru