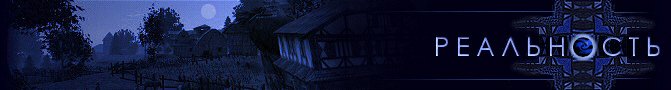
|
|
|
|
|
|
|
|
С.Л. ФранкРеальность и человекМЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ Реальность.ru / Книги / С.Л. Франк / Реальность и человек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
ГЛАВА IIIИДЕЯ И РЕАЛЬНОСТЬ БОГА1. РАЗУМ И ВЕРА. ПРОБЛЕМАТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТАЧитатель, удостоивший внимания все предшествующее, вероятно, во время чтения не раз задавал себе или по крайней мере смутно ощущал вопрос: в каком отношении стоит то загадочное и по самому своему существу в обычной, логической форме неопределимое понятие, которое мы ввели под именем «реальности», к общепризнанной отчетливо-конкретной для религиозного сознания идее Бога? Некоторыми своими чертами оно как будто напоминает ее, и близко к ней, и вместе с тем в других отношениях на нее совсем не похоже. Хочет ли автор заменить идею Бога своим понятием «реальности», еретически видоизменить ее в ее общепринятом понимании так, чтобы она могла совпасть с выводом его мысли, или же в его системе остается место для живого Бога религиозного сознания наряду с тем, что он называет «реальностью»? Доселе мы умышленно избегали затрагивать тему «Бога» и при обзоре состава внутренней духовной жизни обходили ту ее область, которая называется «религиозной жизнью». Теперь наступило время объясниться. Простое смешение или отождествление реальности с тем, что разумеется под словом «Бог», было бы явной интеллектуальной недобросовестностью. Bradley остроумно говорит, что человек, отождествляющий понятия «абсолютного» и «Бога» (а мы уже упоминали, что «реальность» примерно совпадает с тем, что чаще принято называть «абсолютным»), попадает в трагикомическое положение собаки, имеющей двух хозяев, между которыми она беспомощно мечется, не зная, за кем следовать. Мы не имеем ни малейшей охоты попасть в это положение — тем более что оно не только логически затруднительно, но часто приводит и к весьма серьезному и гибельному заблуждению. Дело в том, что — как увидим далее — реальность есть и источник того, что мы воспринимаем как зло и грех в человеческой жизни, и уже поэтому никак не может быть просто отождествлена с Богом (1). Но прежде, чем по существу ответить на вопрос, каково отношение идеи Бога к развитому нами понятию реальности и какое место в намеченной нами метафизической системе может занимать эта идея, надо ответить на предварительный вопрос: можно ли вообще «рассуждать» о Боге, иметь Его предметом философского размышления? Несмотря на наличие здесь прочной положительной традиции, проходящей через всю историю античной, средневековой и новой мысли вплоть до немецкого идеализма и до нашего времени, это продолжает оставаться спорным. «Бог философов» (как говорил Паскаль) остается в некоторых определяющих своих чертах по большей части настолько отличным от «Бога Авраама, Исаака и Иисуса Христа», что здесь невольно возникает подозрение: кажется, что философы если не умышленно, то бессознательно лукавя, просто пользуются именем Бога для обозначения чего-то совершенно иного, чуждого религиозному сознанию и неспособного его удовлетворить. Никто не выразил убеждения в разнородности между чистой мыслью и религиозной верой сильнее, чем тот же Паскаль. Читатель не посетует на нас, если мы начнем наше размышление с обсуждения его соображений на эту тему, по глубине мысли и художественной выразительности слова принадлежащих к величайшим достижениям мыслящего человеческого духа. Вот что говорит Паскаль:
И та же мысль резюмирована в знаменитом кратком изречении: «Le coeur a ses raisons, que la raison ne comprend pas»**. Для Паскаля, таким образом, вера, открывающая человеческой душе живого Бога, осуществляется в совсем особом порядке, который он называет «сердцем» или «ordre de charité»*** и который не имеет ничего общего с разумом, будучи отделен от него «бесконечно большей бесконечностью», чем разум или мысль от мертвого тела. Что в этой мысли содержится какая-то глубокая и бесспорная правда — это очевидно для всякого религиозного чуткого сознания. Столь же очевидно, однако, что, выраженная в этой крайней форме, она должна вызывать величайшее сомнение. Уже сама аналогия непреодолимого дуализма между верой и мыслью со столь убедительным для Паскаля (и для простого наглядного представления вообще) картезианским дуализмом между «телами» и «умами» потеряла значительную долю своей убедительности для нас, обогащенных выводами современной натурфилософии и психологии; если «тела» сводятся сами к нематериальным носителям энергии или некоего динамизма, а «ум» или мыслящее сознание имеет своей конкретной основой некий жизненный импульс, то этим уже намечена внутренняя связь между ними через видимую бездну, их отделяющую. Но это — лишь мимоходом. Самое главное: взятое в буквальном смысле утверждение наличия непроходимой бездны между мыслью и религиозным сознанием делало бы невозможным всякое вообще богословие, даже в самом элементарном смысле простого умственного выражения содержания веры, т. е. всякую отчетливо сознательную веру. Оно содержало бы и внутреннее противоречие: нельзя было бы понять, как в таком случае Паскаль мог выразить само сознание этой безусловной разнородности между верой и разумом в словах, сочетающих глубокую интуицию сердца с классически-рациональной ясностью мысли. Очевидно, сам Паскаль не делает этих крайних выводов из своего тезиса. Но невозможность признания этого тезиса в той заостренной форме, в которой он сам его высказал, сразу же приводит к весьма существенному выводу. Мы видим: недоступность разуму области веры содержит диалектику, по существу сходную с той, которую мы выше наметили в отношении между сверхрациональным опытом конкретной реальности и рациональным познанием. Поэтому мы можем сразу же уловить общую природу действующего здесь соотношения: область веры сверхрациональна, выходит за пределы сферы действия категорий рационального познания; это, однако, не исключает возможности для рационального познания — в форме конкретного описания и трансцендентального мышления — отдавать отчет в том, в чем область веры его превосходит (ср. выше, гл. II , 2). Но из этого следует, что, какая бы «бездна» ни отделяла область веры от области разума, эта бездна не может быть непроходимой: на какой-то глубине должна иметься связь между этими двумя разнородными областями. Об этом свидетельствует уже тот факт, что человеческий дух способен вообще в едином умственном или духовном взоре обнять и обозреть эту бездну, т. е. совмещать обе области в единстве своего сознания. Но этого общего соображения недостаточно; мы должны выяснить соотношение более детально. Возвращаясь к тезису Паскаля, можно было бы ближайшим образом выразить в смягченной форме его правду так: область веры безусловно недостижима, ибо инородна «чистому разуму», как таковому. Не вполне ясно, что именно разумеет Паскаль в приведенном месте под словом «esprit» (разум). Легко предположить, что он ближайшим образом имеет в виду то, что он в другом месте называет «esprit géométrique» и что может быть определено как способность чисто интеллектуального созерцания, т. е. созерцания чисто идеальных форм и связей бытия. Эти формы и связи образуют как бы внешнюю, доступную интеллектуальному созерцанию структуру бытия; тогда как истины веры открываются в некой глубине, лежащей за пределами этой внешней структуры. Паскаль сам противопоставляет этому «esprit géométrique» — чистому разуму — другой разум, который он называет «esprit de finesse». Последний (следуя за разъяснениями самого Паскаля) можно было бы определить как способность опытно ориентироваться в том сложном составе бытия, который не вытекает непосредственно из его идеальной структуры. Это есть та сторона разума, в силу которой он обладает гибкостью, пластичностью, «тонкостью», т. е. способностью приспособлять понятия к логически непрозрачному, сложному, лишь опытно констатируемому составу бытия. В признании особого esprit de finesse Паскаль преодолевает, таким образом, односторонность рационалистического идеала философской мысли, установленного его старшим современником Декартом, — того идеала, к которому он сам был так близок по своему научно-математическому гению. Это понимание философии, в силу которого все ее истины должны быть логически доказуемы и «выводимы», надолго, едва ли не до нашего времени, сузило и исказило философскую мысль (3). Этот «esprit de finesse» должен был бы охватывать и тот опыт, который мы выше назвали «живым знанием» в отличие от бесстрастного предметного знания, — опыт, в котором реальность открывается нам изнутри, через нашу собственную сопринадлежность к ней. Но к составу такого опыта, несомненно, принадлежит и религиозное сознание, данное в «опыте сердца». Будучи недоступными «чистому разуму» — esprit géométrique , истины этого рода могли бы оставаться доступными «esprit de finesse». «Опыт сердца» тут, конечно, не только психологически, но и по существу предшествует умозрению. Но раз эта область достигнута — на единственном, ведущем к ней пути «веры» или «сердца», — разуму дана возможность осмыслить, выразить своими средствами, т. е. в понятиях, то, что здесь обретено. Но именно здесь, после приведенных предварительных разъяснений, обнаруживается подлинный смысл тезиса Паскаля о безусловной разнородности областей веры и разума, «coeur» и «esprit»**: он сводится именно к утверждению инородности религиозного опыта всему остальному, так сказать, «земному» опыту, лежащему в основе обычного рационального осмысления мира и жизни. В самом деле, если опыт веры есть некая чудесная, осуществляемая восприятием «сердца» встреча с безусловно сверхмирной, трансцендентной миру реальностью Бога, уход в некое совершенно новое измерение бытия, чуждое всему остальному опыту, — в область, которую католическая мысль называет «le surnaturel»*, — то между религиозным опытом и всем обычным пониманием мира и жизни будет зиять непроходимая бездна. Не только чисто рациональное познание, но и вся наша обычная жизненная мудрость будет совершенно бессильна охватить и разъяснить «опыт сердца». Что в состав конкретной религиозной жизни входит элемент «чудесного», уловимый только в порядке эмоционально-иррациональном, в «опыте сердца», и чуждый не только трезвому, чисто интеллектуальному познанию, но и вообще всяческой философской мысли, это, конечно, совершенно бесспорно. Не трудно определить, в чем заключается этот элемент: он состоит в характере религиозной жизни, как совокупности чисто личных переживаний верующего, процессов и явлений как бы лирического или драматического порядка в отношении человеческой души к Богу. Поскольку религиозный опыт носит такой характер, как бы случайных, — т. е. не связанных с остальным, общим составом всего нам ведомого — личных «встреч» с Богом как единичным и безусловно единственным существом перипетий отношения к Нему и связанной с ними смены эмоциональных переживаний, — этот опыт остается недоступным умственному обобщению, не вмещается в общую, т. е. философскую, картину мира и жизни. В этом — роковой предел всякой «философии религии». Вера в этом смысле есть действительно некая самодовлеющая сфера жизни, имеющая в самой себе свою опытную, имманентную достоверность; она и не нуждается ни в каком объяснении, и не допускает его — примерно подобно тому, как влюбленный в объятиях любимого существа имеет всю нужную и возможную ему духовную полноту жизни и не хочет и не может «рассуждать» о своей любви и искать ее объяснения и оправдания. Однако в состав религиозного опыта входит и элемент иного порядка. В нем мы имеем сознание раскрытия неких последних глубин бытия, некой его первоосновы. Но последняя глубина или первооснова есть некий общий, всеопределяющий фундамент, необходимо связанный со всем остальным доступным нам содержанием бытия. Иначе говоря, в состав религиозного опыта входит элемент того общего внутреннего опыта, того живого знания, который можно назвать метафизическим опытом. Сознаваемый в религиозном опыте как некое единичное конкретное существо, к которому мы стоим в личном субъективном отношении, Бог одновременно сознается как существо вечное, всеобъемлющее и вездесущее, как абсолютная основа всяческого бытия. В этом последнем качестве Он, очевидно, стоит в неразрывной связи со всем сущим. И то же соотношение можно уяснить и с другого его конца: наш обыденный «земной» опыт складывается в некую общую картину мира и жизни; и, как мы видели, эта картина объективной действительности немыслима вне связи со своим основанием — со сверхмирной сферой всеединой реальности, непосредственно открывающейся во внутреннем, метафизическом опыте. Этим мы возвращаемся к исходной точке нашего размышления. «Бог», что бы мы конкретно ни разумели под этим словом, конечно, не совпадает с идеей реальности; но он стоит в какой-то теснейшей связи с ней. Религиозный опыт имеет сторону, в которой он совпадает с метафизическим опытом. И нам остается только идти дальше — точнее, глубже — по пути, который открыл нам сферу «реальности», чтобы получить возможность философски осмыслить идею Бога. При всей разнородности отдельных сфер или содержаний опыта — все они имеют сторону, в которой они сливаются в единый, всеобъемлющий опыт реальности, вне которой немыслима сама философия; этот опыт хотя и не вполне совпадает с тем, что Паскаль называл знанием «сердца», но все же сродни ему. С другой стороны, то же соотношение может быть уяснено через обнаружение онтологической несостоятельности резкого дуализма между «сверхприродным» (surnaturel) и «природным» слоем бытия. Наличие самой двойственности между обычным, знакомым нам из общего опыта «земным» или «природным» слоем бытия и прозреваемым в религиозном опыте «сверхприродным», «божественным», «чудесным» его слоем не может быть, конечно, отрицаемо. Но дело в том, что само так называемое «природное» бытие в своих последних глубинах тоже — производным образом — сверхприродно: «сверхприродное» начало его насквозь пронизывает и всецело объемлет. Связующее звено между трансцендентно-сверхприродным и «природным» (в котором сверхприродное, таким образом, одновременно имманентно присутствует) есть именно та основная, глубинная стихия бытия, которую мы усмотрели в реальности. Именно поэтому философия — мыслящее познание бытия — органически связана с религией, а не отделена от нее непроходимой бездной; и вместе с тем именно в силу этого возможно — а потому и необходимо — философское осмысление самого религиозного опыта и его предмета, Бога. Философия, конечно, должна при этом сознавать указанную неизбежную ограниченность своих возможностей на этом пути. В постижении Бога святые и мистики всегда будут мудрее самого глубокомысленного философа по той указанной только что причине, что они одни в состоянии охватить свой предмет — во всей его конкретной полноте — не только его общую природу, но и индивидуально-личный элемент в его составе, недоступный философской мысли. В религиозной жизни всегда поэтому остается нечто, что «скрыто от мудрых и разумных» и открывается только «младенцам». Но с этой оговоркой философия все же имеет основание исходить из убеждения в том глубочайшем единстве и человеческого духа, и самой реальности, в силу которого «разум» и «сердце», несмотря на всю их разнородность, предназначены к согласованному сотрудничеству. Всякое убеждение в безусловном их разрыве приводит только к обскурантизму и в философии, и в религии. Но и этим мы еще не исчерпали всей проблематики занимающей нас темы. Мы исходили доселе из молчаливого допущения, что религиозный опыт и достигаемое им представление о Боге сами по себе есть нечто совершенно определенное и однозначное. Употребляя слово «Бог», мы тем самым подразумеваем, что по крайней мере общий смысл этой идеи понимается всеми одинаково. Фактически, однако, многообразие религиозных верований свидетельствует об обратном. Спрашивается: из какого именно религиозного опыта, из какой идеи Бога мы должны исходить при попытке философского постижения Бога? Если, в интересах беспристрастия и полноты, мы попытаемся определить содержание этой идеи в порядке индуктивном, перебирая все исторически известные нам ее формы, то обрисовывающееся при этом, общее им всем понятие «Бога» рискует расплыться в совершенной неопределенности. Если даже оставить в стороне тип веры, который вообще обходится без понятия Бога (буддизм в его первоначальной форме), — то при попытке обобщить столь разнородные веры, как античное язычество (уже само по себе чрезвычайно многообразное), иудео-христианский и магометанский монотеизм, браманизм, конфуцианство, таоизм, религию шинто, и вдобавок еще все необозримое множество вер так называемых первобытных народов — и вывести из них некое общее понятие о «Боге», от него останется едва ли что-либо, кроме общности слова. В лучшем случае можно будет сказать, что «Бог» есть неопределенный предмет «поклонения» или некоего специфического чувства страха — нечто, для чего немецкий богослов Rudolf Otto придумал слово «das Numinose»*. Неопределенность этого понятия делает его философски совершенно бесплодным. Если же, наоборот, мы будем исходить, в интересах определенности понятия Бога, из какого-либо уже догматически фиксированного религиозного опыта, например из содержания христианской веры, то мы уже отказываемся от непредвзятой свободы мысли, ибо заменяем непосредственный конкретный религиозный опыт некоторым без проверки принятым догматическим учением о Боге; ибо очевидно, что всякое конфессионально определенное представление о Боге и соответствующий ему тип религиозной веры содержат уже элемент богословской доктрины, принимаемой из послушания авторитету предания. Но философское постижение Бога потеряло бы весь свой смысл, если бы оно просто совпадало с «догматическим богословием» как рационально-систематическим разъяснением определенного, уже фиксированного круга религиозных идей. Независимому мыслителю не остается здесь иной возможности, как исходить из своего личного непосредственного религиозного опыта. Конечно, с этим связана опасность принять за мерило истины всю ограниченность и все субъективно-индивидуальное своеобразие этого опыта. И немало «философий религии», особенно в нашу эпоху упадка религиозной культуры, дают устрашающий пример филистерского убожества и самомнения, выступающего с притязанием на общеобязательность. Чтобы по возможности избегнуть этой опасности, надо, сохраняя независимость мысли, стремиться обогащать и углублять свой религиозный опыт, учась у мастеров в этой области — у святых и мистиков, надо развивать в себе некоторого рода религиозное чутье или религиозный вкус (4). Конечно, этим не устраняется, а только уменьшается опасность ограниченности и субъективности нашего опыта. Но ограниченность опыта сама по себе не есть препятствие к его достоверности, — если только он не претендует на исчерпывающую полноту: и близорукий может ясно видеть по крайней мере ближайшую к нему сферу реальности. Что же касается субъективности, то не нужно преувеличивать ее значения; она, в конце концов, не отлична от общей опасности субъективности, которой подвержено всякое человеческое познание, особенно в областях духовного опыта, где своеобразие субъекта играет большую роль, чем в знаниях, основанных на внешнем опыте. Всякое человеческое знание связано с риском субъективности, подвержено опасности односторонности и искажения в силу своеобразия интересов и навыков мысли познающего субъекта. Психология показывает, что само наше восприятие определено мыслью; наша мысль же — хотя бы уже потому, что она связана с уровнем развития и структурой языка, — носит на себе отпечаток некой умственной и духовной культуры. В этом смысле надо откровенно признать, что наша религиозно-философская мысль определена и некой традиционной религиозной культурой, и общим духовным состоянием эпохи. Это не мешает, однако, ни честному стремлению к объективной истине, ни возможности подлинного приближения к ней. Только те, кто исходят из предвзятого мнения, что религиозная вера вообще не есть подлинный опыт, т. е. интуитивное овладение подлинной реальностью, могут думать, что неизбежный элемент субъективности вообще опорочивает, лишает объективного значения суждения, имеющие своим предметом Бога. В области религиозной мысли (как и вообще мысли о духовных реальностях) дерзновение искания объективной истины и вера в ее возможность вполне оправданны в сочетании со смиренным сознанием относительности всех человеческих ее достижений. Итак, как можем мы осмыслить идею Бога, открывающуюся в непосредственном, превосходящем разум опыте веры и какое место должны мы ей отвести в намеченной в предыдущем размышлении картине реальности? 1. Именно в отождествлении реальности с Богом лежит основное заблуждение пантеизма. Обычное мнение, что пантеизм отождествляет Бога с «миром» — т. е., по нашей терминологии, с «объективной действительностью», — ошибочно: такого пантеизма никогда не существовало (намек на него можно в лучшем случае усмотреть разве только в первом, наивно-беспомощном наброске его у Ксенофана). И стоики, и тем более Спиноза, отчетливо различали метафизическую глубину или первооснову вселенского бытия — нечто сходное с тем, что мы называем реальностью, — от эмпирически данной его «объективной действительности» и только первую из них отождествляли с Богом. У Спинозы это выражено в упомянутом уже различении между natura naturans и natura naturata *. 2. Pascal , Pensees, ed . Brunschvicg, N 793*. 3. Противоположное этому направление английского «эмпиризма» — как бы это ни казалось странным — не внесло с надлежащей ясностью необходимой здесь поправки. Ибо, признав источником знания опыт, оно сузило само понятие опыта, сведя его к опыту чувственному или вообще наглядно-конкретному, т. е. к констатированию единичного, — и тем самым временного бытия, и потому отвергло самый замысел метафизического или онтологического знания. Ему осталась чуждой мысль, что и в самих глубинах бытия есть соотношения, доступные умозрению, но именно в форме опытно констатируемых связей, — то, что можно было бы назвать «вечными фактами бытия». Эта истина впервые была высказана не каким-либо философом, а великим поэтом-мудрецом Гете в его совершенно оригинальной теории знания. Познание, по Гете, достигает своей конечной цели, когда оно доходит до констатирования неких «первоявлений»; и оно должно смиренно признать, что дальше такого констатирования оно идти не может; все попытки дальнейшего «объяснения», т. е. рационального постижения, остаются тщетными и беспредметными. Заслуга отчетливого логического уяснения этого соотношения — в борьбе с картезианским рационализмом — принадлежит замечательному французскому философу-математику середины ХIХ века Cournot *. 4. Образцова в этом отношении установка Бергсона в его книге: «Les deux sources de la morale et de la religion»*. |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|
2003-2007 Alter Ego, Церковь в Москве, mail@realnost.ru