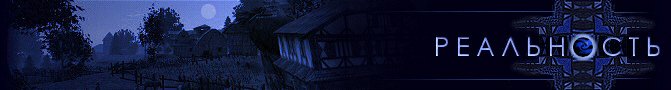|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питер Крифт Небеса, по которым мы так тоскуем |
ВВЕДЕНИЕ Что ведет нас, когда мы ищем неба, — общество или сердце? Молчание нашего общества. Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три: 1. Что мне дано знать? Вопросы эти1 соответствуют трем «богословским добродетелям» — вере, надежде и любви2. Вера в слова Господни — христианский ответ на первый вопрос. Любовь к Богу и ближнему — христианский ответ на второй. Надежда на Царство Божие — христианский ответ на третий. Вера удовлетворяет глубочайшую умственную жажду — жажду правды; любовь — глубочайшую нравственную жажду — жажду праведности. Точно так же надежда на Царство Небесное удовлетворяет сердечную жажду — жажду радости. Эту жажду, эти поиски мы видим в великих мифах и религиях, в лучших книгах и картинах, в снах и мечтах, встающих из глубин подсознания. Какими бы разными ни были небеса, на которые мы надеемся, всюду, где есть человек, есть и эта надежда. Вопрос о надежде по меньшей мере так же важен, как два других важнейших вопроса. Ведь он значит: «В чем цель, в чем смысл жизни? Почему я родился? Для чего я живу? К чему это все?» В нынешнем западном обществе почти никто не может ясно и связно ответить на это. Почти все мы живем, не зная, зачем живем. Вот она, самая тяжкая беда, гораздо хуже смерти. Жизнь без смысла, в сущности, — и не жизнь, а существование, прозябание. Виктор Франкл открыл в немецком лагере, что самая глубокая наша потребность — не наслаждение, как думал Фрейд, и не власть, как думал Адлер, а смысл и цель, «то, ради чего мы живем и ради чего умираем». Смысл жизни нужен нам больше, чем сама жизнь. Миллионы людей вокруг нас живут ужасной, бессмысленной жизнью, которую лучше назвать духовной смертью. Наше общество отличается от всех, какие только были на свете, не тем, что мы летаем на Луну, или продаем больше товаров, или победили много болезней, или, наконец, можем взорвать планету, а тем, что мы не знаем, зачем мы живем. До сих пор всякое общество отвечало на три великих вопроса. Оно передавало людям то, чему учили святые, мудрецы, мистики, мыслители, боги. Теперь, впервые за всю историю, предание уже не священно; собственно говоря, его как бы и нет. Мы первыми вырвали корни из почвы. Если мы хотим ответа на вопрос о надежде, каждый должен искать его сам, общество просто его не знает. Шуму много, но на этот вопрос нам отвечает молчание. Как же это вышло? Как же общество, которое знает все обо всем, ничего не знает о самом важном? Почему «взрыв знания» уничтожил высшее знание? Почему мы выбросили карту, когда пустили поезд на полный ход? Надо пройти обратно путь, по которому мы зашли в тупик, иначе не вернуть надежду. Надо выяснить причины безнадежности, иначе ее не вылечишь. Прежде, чем перейти к главному в этой книге, — прежде, чем исследовать глубочайшую нашу надежду, — ответим на два вопроса: 1) почему общество молчит и 2) может ли сердце вместо него повести и научить нас, когда мы станем искать надежду, искать небо? ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ С самых давних времен человечество мечтало о небе. Одни из самых древних памятников материальной культуры — могильники. Мертвых всегда собирали в дальнее странствие. Какими бы разными ни были ее формы, вера в загробную жизнь — ровесница рода человеческого. В этом, как и во многом другом, из древних народов выделяются два — евреи и греки, источники западной Цивилизации, наполнившие реку, чьи воды орошали Средневековье, потом разделились снова, но все еще бегут тонкими струйками по топкой дельте современности. Если бы веков двадцать назад Землю увидел инопланетянин, умевший различать не только внешнюю, но и внутреннюю силу, он признал бы корнями древа истории не Персию и не Египет, а Грецию и Израиль. Все народы отвечали мифом на три великих вопроса, все — кроме этих двух. Евреи заменили миф верой в Бога, действующего во времени и открывающего Себя миру; греки — поверяющим, вопрошающим разумом. Поэтому и надежда, и самое небо были у них иными, чем у мифотворцев. Иудейское представление о небе прямо противоположно языческому — оно не возносится ввысь из нашего сердца, а спускается вниз, от Бога, как Новый Иерусалим в конце всей истории откровения. С самого начала этой истории Бог говорит людям, чего Он хочет, а не люди Богу, чего хотят они. Не люди творят Бога по своему образу и подобию, а Бог — людей, по Своему; и точно так же не Земля творит по своему подобию небо, а небо преображает Землю, уподобляя ее себе. Величайший из иудеев учит нас молиться о том, чтобы Царство Божие пришло на Землю таким, какое оно на небе. Иудеи — «избранный народ». Бог непрестанно повторяет, что без какой-либо своей заслуги они избраны вестниками надежды, соборным пророком, устами Божьими (Втор 7:6-8). Обетований Он дает много, есть среди них неясные, есть —немыслимые, как воскресение мертвых (Ис 25:8, Иез 37:12-14, Иов 19:25-27). Он обещает показать (не совсем понятно, здесь ли, на Земле-) то, чего «не видел глаз, не слышало ухо и (что) не приходило на сердце человеку» (1 Кор 2:9, ср. Ис 64:4 и 65:17). Поэтому добрый иудей о небесах не гадает. «Не приходило на сердце человеку» — значит, все что «приходило», нельзя считать небом. Пусть Бог определяет его, не люди, пусть Бог и дает нам. Когда Бог говорит ясно, мы ясно и знаем, когда говорит туманно — знаем туманно. В отличие от христиан, иудеи не думают, что Бог ясно говорил о загробной жизни (во всяком случае, до сих пор), а вперед Бога не забегают. Как достойна и хороша такая сдержанность, по сравнению с дикими мифами других народов, поддавшихся сильному искушению и возместивших своей фантазией то, чего не открыл нам Бог! Греки — другой корень древа западной цивилизации. Иудеи дали нам совесть; греки — разум. Иудеи дали нравственный закон — то, что должно быть; греки — законы разума и бытия, того, что есть. Их философы по-своему поняли Бога, по-своему поняли небо. Пока жрецы толковали о грешных, слабых богах со всеми их проделками или о низших и загробных мирах, философы заменяли несовершенных, личных богов совершенными, но безличными сущностями, небеса наслаждений и горестей — небесами абсолютной Истины и абсолютного Добра. Их богами были Справедливость, а не Зевс, Красота, а не Афродита. (Иудеи тем временем поклонялись Совершенной Личности, превзойдя и греческих жрецов, и греческих философов). Небеса философов — вневременное и внепространственное царство чистого разума, чистого духа, чистого познания вечных сущностей — сменили мрачные подземные царства тартара и аида, земное загробное царство Элизия и звездные миры превращенных в созвездия героев. Две небесные сущности — Истина и Добро — стали абсолютными ценностями. Даже боги поверяются ими, и не выдерживают поверки; вот почему Сократа обрекли на смерть за то, что он «не верит в богов»3. Платон вопрошает: «Свято ли святое, ибо боги одобряют его, или боги его одобряют, ибо оно свято?»4. Жрецы согласны с первым предположением, философы — со вторым. Для философов две вечные сущности, Истина и Добро, — выше богов. Но они не выше Бога, Который сам Истина и Добро, «эмет», надежность, твердыня. Греки открыли два атрибута Божьих; иудеев открыл Бог. Иудеи и греки встретились, греки — в римской, иудеи — в христианской форме. Формы эти по сути своей оставались иудейством и язычеством. Христос появился не извне; Он не обращал иудеев в новую веру, а называл Себя Мессией, о Котором говорили их пророки. Греческий разум обитал в римском теле. Империя плодила императоров, прокладывала дороги, порождала политическую силу, но не создала ни одной значительной философии. Встреча и слияние великих рек — библейской (иудеохристианство) и классической (Греция и Рим) — дали миру средние века. Средневековые философы никогда не забывали, что они унаследовали, соединили, сохранили два вечных сокровища. Средневековое богословие соединило Ягве, воплощенного в Христе, с вневременным совершенством философских сущностей; средневековое представление о небе соединило библейские образы любви, поклонения, радости с греческим созерцанием вечных истин. Так стало оно beatifica visio , блаженным видением. Однако сейчас — не средние века. Возрождение и Реформация разъединили соединенное, разрушили бурный, но многодетный брак. Оба источника нового времени обратились вспять: Возрождение потянулось к греко-римскому культу человека и разума. Реформация — к простой библейской вере. Реформация породила протестанство, чьи представления о человеческом уделе вполне согласовывались со средневековым католичеством, поскольку оба они уходили корнями в Писание. А вот Возрождение породило нечто небывалое — совершенно мирское общество со здешним, земным summum bonum5. В своем монументальном «Изучении истории» Тойнби насчитал двадцать одну цивилизацию; у первых двадцати есть хоть какая-то религиозная основа и религиозная цель. Наша, двадцать первая, — единственная в своем роде. Посмотрим, долго ли можно продержаться, не пополняя духовных сил из сверхъестественного источника. Чем заменили мы служение Богу и надежду на небо? Завоеванием природы, сперва — через ненадежную магию, потом — через надежную технику. Разница между ними меньше, чем разница между былой и новой целью. Льюис пишет: «Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям; плод их —техника»6. Новая цель логически связана с новым взглядом на самую природу действительности, ведь воззрение на жизнь неизбежно связано с мировоззрением. Пока мы думали, что высшая реальность — вне человека (боги или Бог), мы приспосабливались к ней, а не пытались ее завоевать. Когда же боги исчезли, а «реальностью» стала материальная природа, которая ниже, а не выше человека, мы не приспосабливаемся к ней, а пытаемся завоевать ее для себя. Бэкон возвещает новый век словами о том, что «знание — это сила», и о том, что «человек завоевывает природу»7. Так заменили мы «непрактичные», «пассивные» цели — поиски истины, подчинение Богу. Представим себе человечество, как трубу с двумя выходами, открытыми или закрытыми. Бог, реальность сверхчеловеческая, — вверху , над трубой; природа, которая ниже человека, — внизу. Традиционная мудрость учит нас открыть оба входа, чтобы Бог входил сверху, выходил снизу («вера» и «дела»). Если верхний вход закрыт, мы только трудимся в мире; это — технологизм, «завоевание природы». Можно открыть трубу сверху, закрыть снизу. Получится индуизм и буддизм, для которых мир — мнимость («майя») или искушение, а единственная наша цель — единение со сверхчеловеческой абсолютной реальностью. Восточный мистицизм преуменьшает земную деятельность; современный западный секуляризм отрицает связь с Богом, классическая западная традиция открывает два отверстия, отдавая предпочтение верхнему, ибо без водительства Божия мы не можем мудро действовать в мире. Поскольку теперь отрицают или не видят Бога, остаются только две реальности: природа и человек. Если надежда наша и цель — не Бог, мы должны найти цель и надежду или в самих себе, или в природе. Так возникают два новых царства — царство мира сего и царство нашего «я», вот они, сыновья современного Вавилона. Судя по участи того Вавилона, первого, ничего хорошего нам ждать нельзя. ДВА СОВРЕМЕННЫХ ЦАРСТВА, ДВА КУМИРА Кумир — то, что не Бог, а поклоняются ему как Богу. Мы творим кумира, когда что-то тварное становится для нас высшей целью, надеждой и радостью. Все, что угодно, может стать кумиром. Религия может стать им; ведь она — не Бог, а вера в Бога, и, ставя ее на место Бога, мы поклоняемся поклонению (так иногда влюбляются не в человека, а во влюбленность). Любовь может стать им, ибо «Бог есть Любовь», но любовь — не Бог. Все свойства Бога могут стать им, если отделить их от Бога, ибо Бог — Истина, но истина — не Бог; Бог справедлив, но и справедливость — не Бог. Чаще всего мы нарушаем первую заповедь, и апостол Иоанн не случайно заканчивает Первое послание словами: «Дети! храните себя от идолов» (1 Ин 5:21). Да, идол или кумир — не Бог, сколь искренне и истово мы бы ему ни поклонялись; и потому, рано или поздно, он обманет поклоняющегося. Добрые намерения не изменят непреложного факта: кумир — это мнимость. «Пища во сне точно такая же, как наяву, но то, что мы едим во сне, не насыщает нас, ибо мы видим сон»8. Из камня не выжмешь крови, из тварного — Божественной радости. Теперь у нас два кумира, два мнимых царства, а не одно, так как нынешний мир не един, он расколот, раздвоен. Человечество и природа, дети одного Отца, разделились, когда человек, жрец и слуга природы, отдалился от Бога. В Книге Бытия волчцы и тернии появляются после грехопадения, как и муки чадородия — для Евы (Быт 3:16-19). Разделенность человека и природы намного усилил ренессансный гуманизм, и две его формы провозвестили два новых наших кумира. На юге Европы Возрождение поставило впереди Бога человека, на севере — природу, и завоевание природы стало дорогой в Утопию. Декарт, отец современной философии, сын южного и северного Возрождения, разделил человека и природу, как их никогда еще не разделяли. Суть человека — только дух, суть природы — только материя, а дух и материя — различные, четко очерченные идеи. Дух не занимает места, материя — занимает; материя не мыслит, дух — мыслит. Для нас дихотомия материи и духа понятна и очевидна, и это показывает, как глубоко повлиял на нас картезианский дуализм. Однако разделены не только человек и природа, но и дух, и природа в самом человеке. Для Декарта человек — «дух в машине», чистый дух, чистый разум в чисто материальном теле, и нам неизвестно, как нематериальный палец нажимает на кнопки материальной машины. Мы не узнаем себя в этом странном существе, но именно к нему естественно сползают современные представления. Мы знаем, что это — не мы, но мы не знаем, кто мы. Мы понимаем, что реальность нельзя свести к двум совершенно разным вещам; но не понимаем, что такое реальность, — конечно, если мы и впрямь современны. Дуализм преодолевается монизмом, но каким? Хорошо, есть что-то одно — что же, дух или материя? Оба выхода уже были. Ламетри и Гоббс — первые современные материалисты, Спиноза и Лейбниц — первые современные спиритуалисты. Материализм сводит дух к материи, спиритуализм — материю к духу. Позже, у Канта, объективный спиритуализм стал субъективным, а дальше дуализм противопоставлял уже объективную материю и субъективный дух. Там разместились царства — идолы: царство мира сего — во владениях объективной материи, вытеснив оттуда дух; царство нашего «я» — во владениях субъективного духа, вытеснив оттуда объективность. Объективную истину, объективные ценности заменили субъективные ценности и субъективная истина. Оба же царства заменили Царство Божие, которое строится во владениях объективного духа. Бог — Объективный Дух, а когда «Богумер», объективный мир сводится к материи, духовный мир — к субъективности. Вот он, наш дуализм. С ним нелегко, неуютно, и мы укрываемся в одном из монизмов. Мы не смеем увидеть обе половинки нашей расколотой личности. Бубер так пишет об этом: «Иногда, пугаясь своей отчужденности от мира, человек думает, что же делать (...) и мысль услужливо рисует два вида картинок, справа и слева. С одной стороны (...) — вселенная (...), с другой — душа. Теперь только он испугается, только ужаснется, он взглянет налево или направо, это уж как выйдет, и увидит картинку. То он видит, что "я" растворилось в мире, этого "я" и нет, значит — мир ничего ему не может сделать; то он видит, что мир растворился в "я", мира нет, опять он ничего "мне" не сделает. И так легче, и так... Но наступает миг, он близко, когда испуганный человек смотрит вверх и видит обе картинки, сразу, и пугается еще больше». Преодолеть этот страх отчуждения можно только в Боге, Который приходится Отцом и нашему «я», и миру. Поэтому и пишет Бубер дальше: «...если продолжить обе линии, они сольются в вечном "Ты"»9. СМЕРТОНОСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ БОГА Когда умирает вечное «Ты», человек и природа разъединяются, хуже того — и они умирают. Смерть Бога — это смерть природы и человечества. Во-первых, умирает природа. Если Небо уже не Отец нам, природа — не Мать. Утратив живой дух, «она» превращается в «оно», рассыпается на мертвые атомы, демифологизируется. Формы ее жизни — чисто внешние, это «физическая жизнь», постепенно развившаяся из неживого праха и возвратившаяся в прах. Мир состоит, в сущности, из праха смерти. Во-вторых, человечество становится природным, естественным, а не сверхъестественным. Мы — выше всех на лестнице жизни, но тоже созданы из праха и удел наш — прах. Былое, духовное единство человека и природы сменяется новым, материальным: мы едины в смерти. Сперва умирает Бог, потом разлучаются Его дети, потом они сами умирают и соединяются смертью. Когда умер Бог, Богом стала смерть. «Бог» включает здесь объективную Истину и объективное Добро. Как далеко зашли у нас, на Западе, последствия Его смерти, мы увидим, прикинув, насколько смущают нас слова «объективная истина», «вечные ценности» и т. п. Само слово «ценности» говорит об этом: мы предпочитаем его, ибо «добро» — понятие объективное, «ценность» — субъективное, особенно во множественном числе. «Добро» означает «действительно доброе», «ценности» — то, что мы ценим. Достоевский с пророческой ясностью видел, что смерть Бога влечет за собой смерть объективной Истины и объективного Добра, когда писал: «Если Бога нет, все позволено»10. С противоположной, безбожной точки зрения увидели то же самое. Ницше в «Сумерках богов» ясно и страшно показывает, что со смертью Бога умирает Истина, а Сартр говорит, что «априорного Бога больше быть не может, ибо нет бесконечного и совершенного сознания, которое бы Его мыслило»11. Что же осталось? Бог умер, истина и добро умерли, умер человек и умерла природа. Остается пустой пузырь смерти, мы раздуваем его, он все страшней. Ницше знал, что «воля к власти» заменяет «тягу к истине». Бог уже не наполнит нас Своей жизнью — что ж, заполоним природу нашей жизнью, человеческой. Бога нет, никто не оплодотворит нас Своим Духом — что ж, изнасилуем нашу Матерь. «Овладение природой» — первый кумир, возникающий по смерти Бога. Значит он вот что: во-первых, мы овладели природой (материальная инженерия, технологизм); во-вторых, — овладели обществом (социальная инженерия, тоталитаризм). И того, и другого очень много на современном Западе, и в демократических странах, и в коммунистических. Демократия плохо защищает от тоталитаризма, т. к. они отвечают на разные вопросы, а не дают взаимоисключающие ответы на один и тот же вопрос. Демократия отвечает на вопрос: «Кому доверить политическую власть» («Народу или хотя бы большинству» ); тоталитаризм — на вопрос: «Какая часть человеческой жизни подвластна идеологии, политике, обществу?» («Не часть, а просто все»). Конечно, при демократии это послабее, но набеги бывают. Коммунистический блок догоняет нас в технике, мы его — в тоталитарности. Формы овладения природой сближаются, соединяют силы. Хайдеггер, Солженицын и Уильям Баррет упорно твердят, что Россия и Америка очень близки по духу, их не различишь, поскольку они преследуют одну и ту же цель разными средствами12. Хотя царство мира сего так любят по обе стороны железного занавеса, в самом основании его — трещины. Если это увидишь, можно обратиться 1) к истинному Царству Божьему, 2) к мнимому царству нашего «я», 3) впасть в отчаяние, тихое или буйное. Трещина, собственно, в том, что кумир просто не действует, не выполняет обещаний — неба на Земле или хотя бы счастья. Паскаль хорошо сказал об этом: «Все ищут счастья, исключений нет (...), однако все жалуются. (...) Такая долгая и безусловная проверка, казалось бы, могла убедить нас, что мы неспособны достигнуть счастья собственными силами (...); что бездонную пропасть заполнит только бесконечное»13. Особенно поучительна здесь, особенно печальна история революций. Наверное, обещание и выполнение, идеал и реальность нигде не отличаются так друг от друга. Но еще удивительней то, что мы не удивляемся, мы принимаем это, приговаривая: «Да, слаб человек...» Сравните «свободу, равенство, братство» с якобинцами, Робеспьером, гильотиной, а в конце концов — с диктатурой Наполеона; «новый порядок», обещанный национал-социализмом, — с жестоким беспорядком, который он дал; «диктатуру пролетариата» — с диктатурой Кремля. Потом подумайте о том, что это — правило, а не исключение. История наша полна обмана. Все нормальные люди предпочитают мир войне, правду — неправде, согласие — ссоре, свободу — рабству; однако история их (то есть наша история) — какая-то пустыня распрей и неправды с редкими оазисами мира и справедливости. Господи, почему же? Более чем наивно ответить, что все это делает горстка «плохих людей», измываясь над великим множеством «хороших». Как бы ни различались политические структуры, «горстку» всегда порождает «множество», она представляет его, оно за ней следует. Это — не бесы, не марсиане; это — люди; это — мы. Мало того: страны, сбросившие «плохих», лучше всего иллюстрируют разницу между идеальным и реальным. Все революции предают свои идеалы (в Америке революции не было, была война за независимость; но и Америка все больше предает свой идеал). Почему же? Однажды я видел во сне ответ на этот вопрос. Дело было так — я всегда думал, что я стал бы мудрым, узнай я ответы на два важнейших вопроса: «Что есть?» и «Что должно быть?» Какова природа реальности, какова цель нашей жизни? Сон ответил мне (и всем) на эти два вопроса, но не третий, а именно: «Почему мы не мудры?» Снилось мне, что я оказался голым в пустыне. Кругом один песок — ни дерева, ни воды, ни дома, ни зверя. Все сведено к низшему из общих знаменателей — к материи. Итак, я знаю природу реальности. Все — из материи, и я ее знаю, потому что сам я из материи. Я знаю ее лучше самого лучшего физика, если он — ангел; знаю изнутри. Кроме того, я знаю, так что есть еще и сознание. Его я тоже знаю изнутри. Наконец, я знаю, что есть Бог, потому что на небе — солнце (видимо, оно — символ Бога, как песок — символ, образец материи). Солнца я не вижу — только я повернусь к нему, оно передвигается так, чтобы оказаться сзади. Но тень — передо мной, и я знаю, что оно есть. Итак, я знаю природу реальности: песок и небо, материя и дух, и сам я, сочетающий материю с духом. Что же я должен делать? Зачем я живу, какая у меня цель? Спросив, я сразу получаю ответ, хотя и несколько странный, ибо исходит он от солнца и, одновременно, из желтого круга в моей груди: «Строй Тадж-Махал» (Тадж-Махал всегда был для меня самым дивным, самым прекрасным зданием и, видимо, символизировал в моем сне идеальное общество—такое общество, которого мы все хотим). Я начинаю спорить: «Это же будет замок из песка! Ничего я не могу построить, я не знаю самых основ архитектуры, и камня здесь нет, один песок», — но голос говорит: «Не спорь, ты — это я, точнее, я — это ты. Откуда же, по-твоему, я исхожу?» Да, он исходит из желтого круга. Тадж-Махала требует мое сердце; к совершенству стремлюсь я сам. Тут я понимаю, в чем суть: на первые два вопроса мне (и всем другим) ответили, но мудрым я не стал, ибо не знаю ответа на третий: «Как?» Как голая обезьяна построит из песка Тадж-Махал? Я знаю, кто я; знаю, что делать, — а надежды нет. Третий вопрос — вопрос надежды — мешает мне. Казалось бы, тут мне и проснуться, ведь урок я усвоил—но нет. И я думаю: «Что ж, придется строить...» Слепим кирпичи из песка, построим стену, потом — кирпичный завод, а уж там сделаем кирпичную лопату, потверже, и докопаемся ею до камня. Выплавим из камня руду, повторим каменный век, бронзовый, железный — словом, всю историю, изучим архитектуру, построим Тадж-Махал. Я — Адам, и на этот раз все сделаю правильно. Я начинаю лепить кирпичи, но у меня нет ни воды, ни соломы. Тогда я плюю, вырываю побольше волос — ничего, получается. Мечты о Тадж-Махале озаряются розовым светом, но ненадолго: когда стена доходит до шести футов, она рушится. Я кладу по три, по четыре кирпича, укрепляю фундамент — хоть ты что, падает и падает, только достигнет шести футов. Тем и кончился сон о Тадж-Махале. Кирпичный завод, и тот построить не удалось. И символы, и урок ясны. Я убедился, что не могу создать ничего выше себя, — не могу прыгнуть выше головы, как не может река подняться выше своего источника. Первая стена будущих чертогов создана не мной, а из меня — я подмешал волосы и слюну в песок, материю мира. Общества наши рушатся, ибо мы строим их из себя, а это материал негодный. Причина распри, рабства, неправды — в нас, ни в ком ином. Внешние войны — отработанный пар внутренних. Величайший мудрец Америки, Уолт Келли, автор анекдотов о Пого, сказал: «Мы нагнали врага, и это — мы». Вот почему царство мира сего полно песка, как и царство нашего «я» — оно из «я» построено. Найти небеса в этом мире не легче, чем найти их в себе. Вспомним снова Паскаля: «Стоики учат: "Углубись в себя, и обретешь мир". Это не так. Другие скажут: "Выйди из себя, развлекайся, ищи счастья". И это не так — еще и заболеешь. Счастье не внутри нас и не вовне, но в Боге, а Он — и вовне и внутри»14. Не только заболеешь — умрешь. Смерть уж точно придет, мы больше ничего не знаем в точности, а с нею — конец обоим царствам. Примечательно, что самые серьезные поборники здешнего царства, марксисты, исписали тонны бумаги на все, какие есть, темы, о смерти же им сказать нечего, разве что назвать размышления о ней «упадочными и мрачными». И это — не единственное учение, чья надежда разбивается о скалы смерти. «Почти все наши системы хотят убедить нас, что счастье наше — здесь, на Земле. Чтобы тоска по запредельному не проснулась и все не испортила, они используют любые красоты слога, только бы вы не вспомнили, что какое бы счастье ни обещать, каждое поколение утратит его со смертью, тем более — последнее из поколений, и вся история во веки веков будет просто ничем, даже не занятной историей»15. Обратившись к царству нашего «я», мы не решим проблему смерти, но царство это любят, особенно в Америке. В нашей Декларации независимости есть прославленные слова: «право на счастье». Мне кажется промыслительным, что лучший апологет столетия, К. С. Льюис, озаглавил последнюю свою статью: «У нас нет права на счастье»16. Но позвольте, разве греческие и средневековые философы не говорили, что счастье — цель нашей жизни? Говорили, но разумели под «счастьем» совсем другое — то было объективное, а не субъективное понятие. Этим словом они называли духовное здоровье, «эвдемонию», буквально — «благо-душность» (не «благодушие»!). Если мы чувствуем себя счастливыми, мы и считаем себя счастливыми; не чувствуем — не считаем. Древние же могли чувствовать счастье, но счастливыми не быть (удачливый тиран), точно так же, как больной может себя чувствовать здоровым. Могло быть и наоборот; вспомним Иова. Ключевой вопрос тут в том, можно ли страдать — и быть счастливым. В современном, субъективном смысле — нельзя (если ты не мазохист); в древнем, объективном — можно. Страдание дает мудрость, а без мудрости нет счастья. Если счастье объективно, если мы в нем, а не оно в нас, тогда его объективные законы могут потребовать и субъективного страдания. Почти все великие люди знали по опыту и учили, что страдание наделено творческой силой. Современные субъективисты этого не знают. НАСТАВНИК НАШ – СЕРДЦЕ Итак, наше склонное к идолам общество не может ответить на вопрос о небе, о надежде, о счастье. Оба его царства — просто кумиры, и оно молчит, лжет или отвечает неверно. Что же заменит нам традицию, предание? Кто научит, на что мы вправе надеяться? Куда обратиться, где искать, какого наставника слушать, где покупать товар духа? Обратитесь к собственному сердцу. Этому главному наставнику доверять можно, он не отмахнется от вас (ведь он и есть «вы»); он мудрее вашего мозга; мудрее, чем вам кажется. Прислушайтесь к нему. Сердце скажет, на что надеяться, объяснит, зачем вы живете. Вслушайтесь получше — и узнаете о небе. Значит, небеса — в сердце? Конечно, нет! Мы только что разоблачили призрачное царство нашего «я». Хотя «внутреннее пространство» сердца бесконечно больше, чем все «внешнее пространство», небо — бесконечно больше всего, что когда бы то ни было входило в наше сердце. Вспомним: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку...» (1 Кор 2:9, Ис 64:3-4). В сердце вы найдете не само небо, но его образ, очертания, тень, неутолимую тоску. Наша книга пытается вывести этот образ в сознание. В сердце вы найдете не само небо, но дыру, полость, утробу, которая взывает к Возлюбленному, чтобы Он оплодотворил ее. Небо — Тело Бога, земля — наше тело. В сердце вы найдете не само небо, но стезю к небу17. Стезя — внутри, не снаружи, на небо не взлетишь в ракете. Но то, что внутри, — стезя, не цель. Небеса бесконечно больше сердца. В сердце вы найдете не само небо, но перст, указующий на небо. Учители дзен говорят: «Палец указует на луну, но горе тем, кто примет за луну палец!» Вы не найдете неба в сердце, но найдете его через сердце. Сердце — ворота в рай или в ад. «Учитель. Я покажу тебе врата неба и ада (ударяет ученика мечом по спине). Ученик (обнажая свой меч). Негодяй! Я убью тебя! Учитель. Вот и врата ада. Ученик (пряча меч в ножны). Понимаю... Учитель. А вот и врата неба»18. Видите? Сердце великий наставник. Послушайте его. Наша книга хочет помочь вам именно в этом. Она — справочник духовного спелеолога, исследующего пещеру сердца. Многие книги занимались дырой от неба в современном мозгу — пустотой атеистических и секуляристских учений. Но нет ни одной книги о той дыре, которая у нас в сердце. Ведь сердце труднее изучать, чем голову, философы редко занимаются им. Его оставляют исследователям чувств. Но чувства — лишь по краям, не в сердцевине. Там — «неисследованная земля». Ее не исследуют, принимая как данность, что сердцу положено только чувствовать. Прославленные слова Паскаля «У сердца есть доводы, о которых не знает разум»19 понимают неверно, их переворачивают и толкуют как «иррационализм». На самом деле тут сказано прямо противоположное: у сердца есть доводы, резоны (raisons ). Мы не вправе их презирать или от них отмахиваться. Сердце видит, и, если мы хотим видеть, мы должны смотреть не на него, а им. Когда глаза у нас здоровы, мы смотрим ими; когда больны — на них (вернее, просим, чтобы врач их посмотрел). Так и сердце, наш третий глаз. Когда оно болеет, его смотрит психиатр, когда оно здорово — мы смотрим им. Дела у сердца — простые: верить, надеяться и любить. Каждое из этих дел зрячее. Возьмем любовь. Когда вы читаете в Песне песней: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе» (4:7), думаете ли вы, что это красиво, но глупо? Если думаете, значит — вы смотрите на любовь, а не вместе с ней, не ею, и получается ненормальность — слепота. Любящий же считает иначе: именно он-то и прав, именно он и видит то, что есть на самом деле. Не любовь слепа, а безлюбие; тот, кто не любит, видит гусеницу, когда любящий видит бабочку. У любви — свой рентген. Согласно мудрейшим толкователям, жених в Песне песней — Бог, невеста — мы. Бог верит в нашу бабочку, надеется на нее, любит ее. Мы видим грешника, Бог — потенциального святого. Посмеем ли мы обвинить Его в глупости? Суды Его не слепы, а прозорливы и верны. Любовь предельно точна. Как может она быть слепой? Бог есть Любовь. Разве Он слеп? Так что поверим Ему, когда Он зовет нас «прекрасными». Влюбленный, как и Бог, видит сердцем. Только тот, кто поистине любит вас, знает вас, чем сильнее он любит — тем лучше знает. Тот, кто не любит, не может знать о вас все, а вот любящий знает вас. На практике, если не в теории, с этим каждый согласится. Кто по-вашему, лучше поймет вас — гений, которому до вас нет дела, или недалекий человек, который вас любит? Возьмем Данте, величайшего из влюбленных поэтов. Ни одну женщину не превознесли в стихах, как Беатриче. Представьте себе, что вы разумно, «реалистично» указали Данте, что его Беатриче на самом деле — совершенно обычная девица, дочь флорентийского купца, а не какая-то богиня, а сам он просто «проецирует» на нее красоту своей души. Наверное, он вызвал бы вас на дуэль за честь своей дамы и потом, если бы вы оба уцелели, затеял бы спор, что намного важнее. Он утверждал бы, не сдаваясь, что он видит верно, весь мир — неверно20. Рентгеновский луч любви проникает сквозь тело, поступки, нрав в сердцевину, в сердце. Сердце и видит сердце, «бездна бездну призывает» (Пс 41:8). Согласно греческим философам, высшее в нас — разум. Ему судить любовь, ему и только ему вести нас. Согласно же христианству, мы должны любить безрассудно, как Бог, не судя, ибо любовь создает достойное любви. Разум следует за ней, не она за разумом — мы знаем только если любим. Когда Христа спросили, как понимать Его учение, Он отвечал: «Кто хочет творить волю Его (Отца), тот узнает о сем учении» (Ин 7:17). Другой раз Он сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8). То, что мы видим, то, что понимаем — о Боге ли, о себе ли — зависит от нашего сердца — от веры, надежды и любви. Конечно, в науке это не так, ибо наука по сути своей связана не с доверием, а с сомнением, она обязана придираться, как адвокат и прокурор. Наука подвергает природу перекрестному допросу, пытает ее на дыбе, как выразился Бэкон21. В личных же отношениях все наоборот — мы знаем только тогда, когда любим, надеемся и верим. Человека нельзя понять как предмет исследования, по той простой причине, что он — не предмет. Он именно потому и личность, что он — не объект, а субъект. Чтобы узнать человека, надо влезть внутрь. Это может только сердце. Значит, у сердца есть зрение. Неутолимая тоска — его око, оно что-то видит, о чем-то сообщает. Дело тут не в психологии, не в том, что по морю нашей души плавает какой-то мусор. Не будем объяснять это или списывать со счета; посмотрим не на эти глаза, а этими глазами. Здесь, в книге, я и пытаюсь смотреть глазами сердца, чтобы исследовать глубоко скрытую, сокровенную тоску по небу. Исследование это опасно — чем глубже зайдешь, тем становится темнее, тем меньше знаем мы, кто мы и где мы. Хайдеггер с отчаянной честностью отвечает на такие опасения: «Никто из нас этого не знает, если мы себя не обманываем»22. Какой фонарь осветит нашу внутреннюю пещеру, когда мы углубимся туда, где нет дневного света? Что-то слабо мерцает в глубине, там есть светильник — око сердца. Когда разум уже не светит, сердце само осветит себя. Теперь наша сила — в нашей немощи. Чтобы взобраться на вершины разума, надо стать сильнее — жестче, недоверчивей, придирчивей. Голова должна быть твердой, сердце — мягким. Здесь, на глубинах, сила не нужна. Мы должны стать маленькими детьми, ибо только детям дано открыть врата Царства Небесного. Врата эти — сердце, а кому откроется оно, как не ребенку? Ребенок в нас зовется тремя именами: верой (доверием, простотой), надеждой (идеализмом, даром удивления) и любовью (обожанием, преклонением). Все эти качества до ужаса уязвимы, над ними охотно глумится циничный, разумный мир. Льюис пишет: «Я заговорил о стремлении к дальнему краю — и смутился: ведь это (...) нескромно, даже неприлично. Все мы скрываем эту тайну, она так мучает нас, что мы, в отместку, называем ее детскими глупостями. Она так радует нас, что при одном намеке на нее теряемся и неловко смеемся, как влюбленный, услышавший имя возлюбленной»23. Перечитайте эти слова — медленно, вдумчиво, самим сердцем — и честно спросите себя: «Правда ли это? Есть ли у меня такая тайна?» Если она есть, давайте ее исследовать. 1 См.: И. Кант Критика чистого разума: «Все интересы моего разума — и отвлеченного, и практического — сводятся к трем вопросам: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На что я вправе надеяться?». 2 Св. Фома Аквинат Summa Theologiae, I-II, 62, 3. 3 Платон Апология Сократа, 24В. 4 Платон Апология Сократа, 10А. 5 высшее благо {лат.) 6 К. С. Льюис Человек отменяется, гл. 3. 7 Ф. Бэкон Новый органон, предисловие, 2, 20. 8 Бл. Августин Исповедь, 3, 6. 9 М. Бубер Я и Ты. 10 Ф. М. Достоевский Братья Карамазовы, 1,2,5; II , 5, 5; IVII , 6-8. 11 Ж.-П. Сартр Экзистенциализм и человеческие чувства. 12 М. Хайдеггер Введение в метафизику; А. И. Солженицын Гарвардская речь 1978 г.; У. Баррет Иллюзия техники. Нью-Йорк, 1979, с. XI - XII , 325-360. 13 Б. Паскаль Мысли, с. 148. 14 Б. Паскаль, там же, с. 407. 15 К. С. Льюис Бремя славы. 16 Сатердэй Ивнинг Пост, т. 236 ( XII , 1963), с. 10-12. См. также: Бог под судом. 17 «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе» (Пс 83:6). 18 П. Репс Плоть и кровь дзен, 1957. 19 Б. Паскаль Мысли, с.423. 20 См..: Ч. Уильямс «Образ Беатриче» Исследования о Данте. 2 Ф. Бэкон Новый органон, 2, 2О. 21 Ф. Бэкон Новый органон, 2, 2О. 22 М. Хайдеггер Речь о мышлении. 23 К.С. Льюис Бремя славы. |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|