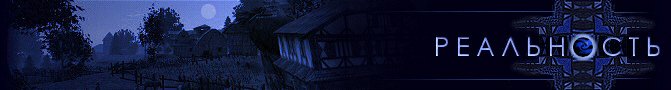|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питер Крифт Небеса, по которым мы так тоскуем |
| ГЛАВА 2 ВРЕМЯ ПОИСКОВ. ПОРА ИЗГНАНИЯ Уклониться от чего-то можно лишь на время; это — дело времени. Истина же — дело вечности, даже если мы уклоняемся от нее, а не встречаем ее лицом к лицу. Во времени на всякий вопрос есть три ответа: положительный, отрицательный и уклончивый. Смерть — прикосновение вечности к времени — исключает третий ответ. Попробуем жить по закону вечности. Уклонимся от уклончивости. Посмотрим в бездну нашей беды. Может быть, мы удивимся, но даже если удивимся, настигнет нас радость1. Может быть, в глубине отчаяния мы обретем высоту надежды, в изгнании — дорогу к дому, словно герои жюль-верновского «Путешествия к центру Земли», которые нашли путь наверх, только добравшись до самой сердцевины. Какой хороший символ! ОТЧУЖДЕНИЕ - ВЕЛИЧАЙШЕЕ НАШЕ БЛАГО Малколм Магридж увидел величайшее благо в самой тяжкой нашей печали, так называемом отчуждении. Он пишет:
Почему он называет такое чувство «великим счастьем»? Потому что это так и есть. Выше здесь нет ничего, ибо это ведет нас отсюда на небо, а что выше неба? Земная неудовлетворенность — путь к небесной удовлетворенности. Этого мало; не всем, кому недостаточно земли, обеспечено небо; но без этого вообще ничего не выйдет. Господь наш вежлив, Он не станет навязывать небеса тому, кто твердит: «Спасибо, я и так обойдусь». Слова надежды — «ищите и обрящете» — содержат страшное предупреждение: если искать не будете, не найдете. Землю мы получаем автоматически, небеса выбираем, а значит, можем их и не выбрать. Плотское рождение несвободно, оно зависит от наших родителей; духовное — свободно, и зависит от нас. Сам Бог не может повлиять на свободный выбор, это уже будет нелепость: «повлиять» и «свободный» — понятия несовместимые3. Однако Он может прельстить нас великим даром несчастья; тем, что нас не удовлетворит ничто иное, кроме неба. Таков ответ на вопрос, почему есть в мире страдание, — на самое сильное возражение против веры в милосердного Бога. Августин говорит, что именно по милости Своей Бог пропитал какой-то горечью все недолжные наслаждения4. Пророк Осия называет страдание «оградой», благодаря которой мы не можем «найти стези свои и возвращаемся к первой любви» (Ос 2:6-7). Льюис учит, что «жесткость Божья милосерднее мягкости человеческой, и понуждение Его — наша свобода»5. Даже смерть он называет «суровой милостью»6. Господь дает нам радости, но не дает гарантий; дает удовольствия, но не успокоенность, ибо Он «создал нас для Себя» и устроил все здесь, на земле, так, чтобы беспокоилось сердце наше, пока не упокоится в Нем7. Присесть и отдохнуть раньше времени у дороги опасно; истинный отдых и покой мы обретем, лишь не отдыхая. Пророк обличает тех, кто «врачует раны народа Моего легкомысленно, говоря "мир", "мир", а мира нет» (Иер 6:14). В строчке из модной песенки «Тот, кому нужен друг, счастливей всех»8 есть правда, искаженная тремя неправдами. Во-первых, надо бы сказать, нужен Бог; во-вторых, хорошо бы прибавить, что счастлив тот, кто об этом знает (ведь Бог нужен всем); наконец, в-третьих, он не самый счастливый — счастливее его тот, кто Бога обрел. Истина же, скрытая здесь, такая: в нужде нашей — наша надежда. Паскаль сказал: «Существует только три рода людей — те, кто нашли Бога и служат Ему; те, кто ищут Его; те, кто Его не ищут. Первые — мудры и счастливы, третьи — глупы и несчастны, а те, кто посредине, несчастливы, но мудры»9. Сразу видно, где проходит черта, разделяющая небо и ад: не между первыми и вторыми, а между вторыми и третьими. Раз уж мы на чужбине, чувство отчужденности — величайшее наше благо. Исследуем же это благо. Развернем странный подарок, поиграем с ним. В чем его смысл? «Отчуждение» противоположно слову «дома». Если Писание право, называя нас «странниками и пришельцами» (1 Петр 2:11), мы ощущаем отчужденность, ибо оно так и есть, мы здесь чужие. Когда какое-нибудь существо у себя дома, ему удобно, все экологически правильно. Если среда не дает нам этого ощущения, значит, она — не дом, мы — не у себя. Рыба ладит с морем, мы же с миром ссоримся, как влюбленные. «Если материальный мир и впрямь породил нас, почему нам здесь так неприютно? Сетует ли рыба на то, что в море мокро? А если бы и сетовала, не говорило ли бы это о том, что она не всегда была или не всегда будет чисто морским существом? Заметьте, как удивляет нас время: "Да, время летит!.. Подумать только, Джон уже вырос и женился! Прямо не поверишь!" Господи, почему же? Видимо, в нас есть что-то вневременное»10. Нас тянет домой, и чутье подсказывает, что дом наш — не в этом мире. Оттого все общества на свете и в истории (кроме нашего) верят в загробную жизнь. Как великие странники, как Улисс и Эней, мы пытаемся добраться до дому. Мир сей нам домом не кажется. Пусть это хорошее шоссе, хороший мотель, хорошая школа, но — не дом. А вот на небе мы дома. Подумайте об этом с минуту. На небе мы дома; небо — дом. Поиграйте с этой мыслью, всмотритесь в нее, пощупайте ее, прикиньте, прежде чем купить. Небеса не просто «хорошее место», это «наше место», «место для нас», для нас хорошее. Мы там уместны; мы как дома. Мы становимся самими собой, а не превращаемся в ангелов (потому и «воскреснут (...) тела» — мы не перейдем в другой вид)11. Льюис пишет: «Ваша душа странной формы, потому что именно эта выемка придется к одному из неисчислимых выступов Божьего бытия, именно этот ключ откроет одну из дверей дома, где обителей много. (...) ваше место в небесах создано для вас, как по мерке, ибо и вы созданы для него, и вас пригонят к нему, дюйм за дюймом, как перчатку к руке»12. Небеса — дом наш, ибо там мы обретаем себя такими, как мы есть. Вспомните, мы ведь не знаем, кто мы; мы отчуждены не только от дома, но и от самих себя. Это дивно выражено в Откровении: «... побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр 2:17). Джордж Макдональд так толкует этот символ: «Господне имя для нас выражает Его замысел данного человека — того, кого Он имел в виду, когда только начал творить его, и держал в уме долго, пока над ним трудился. Называя имя, Он признает, что это Ему удалось»13. Почему же имя это тайное, «которого никто не знает»? Потому, что «у Него — тайна с каждым человеком (...). В каждом есть полость, келия сердца, куда войдет только Бог. Но и в Боге (Господи, смири мою речь!) есть келия, куда войдет только один, только этот человек, чтобы вынести оттуда откровение для братьев. Для того он и создан, чтобы открывать тайны Отца»14. Льюис поясняет слова «для того и создан»: «Каждая душа отдает всем другим свое единственное знание, которое всегда неполно и так прекрасно, что земная ученость и земные искусства — лишь ненужное подобие ее рассказа; и я уверен, что люди созданы разными и для этого»15. ТОСКА ПО РАЮ Чувство отчужденности — это неутолимая тоска по чему-то неопределенному, драгоценному и безвозвратно утраченному. «Никто не проникает в тайный сад через маленькую калитку, никто не слышит труб сказочной страны, не видит волшебного моря. В самом лучшем случае мы ловим отзвук, отблеск на чьем-то лице или на картине, в лесу или на концерте и преисполняемся печали, зная, что это неуловимо, и надо возвращаться к нашим клизмам, уличным пробкам, деловым бумагам»16. Изгнанники вспоминают дом:
Некоторым (особенно поэтам-романтикам, вроде Вордсворта, или искателям утраченного времени, вроде Пруста) кажется, что тоскуют они по молодым годам или хотя бы по молодости сердца. Это не так. Былые события, вызывающие горькое и сладкое томление, когда мы их вспоминаем, воспринимались тогда, в прошлом, совсем иначе. Почему же память о них волшебно преобразилась? Может ли простой ход времени придавать чему-то ценность? Нет, не может; он дает дистанцию, а уж она придает ценность. Тот, кто родился и вырос в горах, не восхищается ими; прекрасны они для туристов, глядящих издалека. Прежде, до космических полетов, мы не дивились земле, как не дивится ребенок матери, пока не увидели незабываемых фотографий, где космический корабль «Земля» сверкал голубой драгоценностью на черном фоне. Мы понимаем, как дорог нам дом, когда из него уходим. Собственно, мы тоскуем по дому, когда нелегко вернуться. Где же наш дом? Где мы дома, по чему тоскуем? Не по нашей утраченной молодости, а по молодости человечества. Прошлое каждого из нас — символ общего прошлого, но не наоборот. Мы тоскуем не по 1955 году и не по 1255, а по раю, где осталась не только наша молодость, но и наша сущность. Кто мы такие теперь? Мы не знаем, не помним. Мы как царевна-лягушка, которая ждет поцелуя, чтобы стать собой. Целует лягушку Бог. Вроде бы это Ему не пристало, но, судя по всему, у Бога странные вкусы. Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите на страуса. Многие сказки, не только о царевне-лягушке, подозрительно легко поддаются богословскому истолкованию. И неудивительно, если Юнг прав, образы их возникли из «коллективного подсознательного», огромного моря, где хранятся те чудеса мудрости, о которых забыли острова осознанного «я». Одно из этих сокровищ — память о рае. Тоскуя по раю, мы тоскуем не по былому времени, а по иному. Там, в раю, время было озером, мы в нем купались. Теперь это река, которая нас уносит. Нам неприютно в ней, хотя «мы живем во времени, как живем в воздухе. Но воздух мы любим, а время — нет. Оно отравляет счастливейшие минуты (...), оно торопит нас. Нам хотелось бы войти в событие, погрузиться в него, полностью овладеть им, а времени на это никогда нет»17. Мы ощущаем время как врага, ибо скользим по нему к смерти. После смерти жены Льюис писал, что глядит в ночное небо и знает точно, что нигде во времени и в пространстве не найдет ее лица, ее голоса, ее рук. Время и есть это «нигде», это «никогда». Даже если мы не умираем со смертью, мы уходим, мы — часть прошлого. «А прошлое — прошло, (...) и время — еще одно имя смерти»18. Память — единственная дамба в этом мире, которой мы можем остановить реку времени. Воспоминания драгоценны, ибо мы вынесли их из прошлого, как Робинзон Крузо вещи с корабля. Но корабли наши тонут, дамбы рушатся. Ничто «не остановит старение солнца, не отменит второй закон термодинамики»19, и «храм достижений человеческих погибнет в развалинах вселенной»20. «Ночное небо», страшившее Льюиса, как страшило Паскаля «вечное молчание бесконечного пространства»21, — это не пространство, а время. Пустота пространства — символ пустоты прошлого, в котором уже нет жизни, реальности, «настоящего». Однако время и смерть — друзья нам, не только враги: обрамляя нашу жизнь, они придают ей великую ценность, как придает ее земле космос. Когда мы подумаем о том, что умрем, жизнь многократно повышается в цене. Считают, что в минуту смерти мы проглядываем заново всю нашу жизнь и по-новому ценим ее. Но для этого не надо ждать смерти, можно прямо сейчас поставить такой опыт. Вспомните какое-нибудь обычное событие. Потом представьте — хорошо представьте, — что вам осталось жить несколько минут. Теперь вспомните снова то же самое. Каким драгоценным оно покажется вам! Проделаем это со всей нашей жизнью и увидим, что смерть не только превращает жизнь в «прошлое», но и придает прошлому жизнь; не только обращает все ценное в «былое», но и придает былому великую ценность. Тоскуя по безвозвратно ушедшему, мы видим его глазами смерти, хотя еще живы. Однако этого мало. Время и смерть делают жизнь драгоценной, но не вечной. Мы же тоскуем по вечности, даже если не знаем, что это такое. Нас не удовлетворяет разумный мир повторений, вселенский верстак, где все на своем месте («все соделал Он прекрасным в свое время (...), время рождаться и время умирать, (...) время разрушать и время строить») (Екк 3:11,2,3). Мы радуемся рождению, но не смерти; мы не плачем на крестинах и не смеемся на поминках. Мы любим созидание, а не разрушение. Нам не все равно. Мы судим. Мы выбираем. Вселенная не выбирает и не судит. Ей совершенно безразличны наши горести.
Проведем опись мироздания. Сколько в ней всего — от атомов до агностиков, от голотурий до галактик? Пусть сумма этого будет «х». Скольких уже нет или скоро не будет? Тоже «х». Никакой разницы. Не «х+1» или «х-1», а «х». Мироздание ни на йоту не предпочитает жизнь смерти. Звезды, и те смертны. Закон вселенной — цикл рождений и смертей, река времени, буддийская сансара. «То, что возникает, то и исчезает». Таково «чистое и бесспорное око учения»23. Но Будда неправ. Со всем почтением к такому гиганту духа, скажу, что кое о чем он забыл. Мы возникаем и не исчезаем — не безличный космический разум, ведомый только мистикам, а мы с вами, люди, множество «я». Над рекой времени торчат наши головы (или сердца?). Будда считал нас иллюзией, мнимостью, мы рождаемся и умираем, но страстно хотим жить после смерти. То, что нам нужно,— за рекой. Если мы не можем через нее перебраться, если мы не можем увидеть лик Божий и жить — значит, мы жили впустую, мы проиграли, нам ничего не удалось. Вселенная удовлетворяет все наши желания, кроме главного. Она —аладинова лампа, древо желаний, шведский стол, где есть все, пока не дойдет до коронного блюда. Мы раззадорим аппетит закусками, и тут нам предложат пустоту. Если это все, миром правит не случай, а злой Бог, вселенский садист, который раскладывает приманки, чтобы вернее погубить нас24. Последняя истина за стенами мира — или добрый Бог, или злой, слишком уж тут все сходится. Сквозь мир проступают замысел, план, рисунок; вопрос лишь в том, хорош ли художник. Чтобы это узнать, лучше всего с ним встретиться. Но как? Мы сосланы в страну времени. Как выбраться в вечность? ЧЕТЫРЕ ДОРОГИ ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ История дала четыре дороги. Первая — ведет назад, в прошлое, в золотой век, когда на земле жили боги. Это путь мифа. Миф переносит нас в сакральное время, в то вечное прошлое, из которого мы выпали в непрестанно перемещающееся настоящее25. Вторая — вообще уводит из времени. Это путь восточных религий, для которых время, а с ним и «я» — просто мнимости, «майя», их нет. Третья — через обетование и надежду ведет в будущее. Это путь Библии, эсхатологии, Царства Божьего. Четвертая, нынешняя — приспособила библейский путь к миру и ведет к небу на земле через диктатуру пролетариата, через овладение природой, через социальное планирование или хотя бы через гуманность; это уже неважно. Сравнивая дороги, заметим, что только две из них ведут через время в вечность, — восточная не ведет через время, современная — к вечности. Можно разделить их и по другому признаку — вперед они ведут или назад. Тогда библейский путь и современный ориентированы на будущее, путь мифа и восточный — на прошлое (для образной их системы характерно возвращение к невинности, неосознанности, единству с природой). Современному западному человеку, и верующему и неверующему, нелегко понять миф и восточную мистику. Мы живем надеждой на будущее, требуем от усилий смысла. Христианин уповает на небо, мирской человек — на землю; оба они надеются. И Библия, и бизнес ценят слово «новый». Мы гордимся прогрессом — тем, что всегда есть «новое под солнцем». Если же «под солнцем» нового нет, оно (или Он) есть за солнцем, и от Него обновляется все на свете. Можно найти в Писании и тоску по прошлому. Человек изгнан из сада, где Бог ходил перед ним «во время прохлады дня» (Быт 3:8). Оба пути — и вперед, и назад — подходят к нам, оба субъективно верны. Нас тянет и в прошлое, и в будущее, мы тоскуем и надеемся, упали с высоты и карабкаемся в гору, изгнаны из рая и готовимся к нему. Даже те, кто не верят, что-то чувствуют; даже те, кто не надеются на рай, на что-то надеются. Разгадывая эту загадку, не забывайте, что дорога — только образ. Когда мы растягиваем образ во времени, получается миф, огромная сказка, которая укорачивает или объясняет жизнь, используя какую-нибудь ее черту. В отличие от понятий, образы не исключают друг друга. Нельзя рассуждать так: «жизнь — это роман» и «жизнь — это борьба», одно из двух, ибо «роман» — не «борьба». Несовместимые мифы могут быть оба верными, скажем, «мир — пузырь» и «мир — огромное яйцо». Миф о потерянном рае, золотом веке, о том, что все становится хуже, помог дохристианским древним культурам осмысленно видеть историю. Сменил его миф о том, что все становится лучше, который подперли с разных сторон гуманизм Ренессанса, вера в разум и упрощенный дарвинизм. Нередко христиане разрываются между этими мифами, и те, кто по характеру консервативнее, тянутся к традиционному, а те, кто прогрессивнее, — к новому. Однако оба этих взгляда — не что иное, как мифы. Они родились не из эмпирических данных, которые можно проверить или подтасовать, а прямо из сердца. Не объективное свидетельство, а субъективное желание создало их. Льюис показал, что западные интеллектуалы верили в эволюцию раньше, чем Дарвин поискал и нашел свидетельства в ее пользу. Сердца Гете, Китса, Шелли, Вагнера жаждали ее прежде, чем породил ее мозг Дарвина26. Верно это и по отношению к другому мифу. Когда древние мудрецы сетовали на всеобщий упадок, сменивший чистоту былого, они отбирали из сложной истории то, что доказало бы эту несложную истину. (Точнее, это половина истины, но она ничуть не менее глубока, чем любая другая). Мы находим свидетельства после того, как увидим в истории восхождение или спуск. История, даже статистика — вроде воска, им можно придать почти любую форму. «Цифры не лгут, но лгуны пользуются цифрами». Исторический миф — такая же схема, как географическая карта. Чем больше подробностей мы узнаем, тем меньше похожа история на падающий камень и на взлетающий шарик. Скорее уж она напоминает игрушку «йо-йо». Мы движемся то вверх, то вниз, порой — и вверх, и вниз сразу. Эволюция видов не опровергает доктрину грехопадения, как нынешний экономический упадок не опровергает эсхатологических чаяний. Экскурс в сравнительную мифологию должен показать, что сердце управляет головой. Нынешняя культура создала миф о прогрессе, ибо миф о регрессе умер. Когда умирает старый миф, культура должна найти новый или умереть — для жизни ей нужен смысл, а мифы дают его. Мы не избавились от мифов, а создали свои, новые. Иначе мы были бы духовно мертвы. И еще об одном надо помнить: непримиримое с виду можно примирить, если охватишь взглядом все вместе, целиком. Скажем, А живет на северном склоне горы и резонно считает гору холодной, Б — на южном и не менее резонно считает, что на горе жарко. Увидеть, что правы оба, можно с вершины или издалека. Другой пример: ничто не может быть в двух местах сразу, а быть в двух местах в разное время — может. Выйдите в четвертое измерение, и вы обойдете законы трехмерного мира. Точно так же «старое» и «новое» противоречат друг другу. Время течет в одном направлении; то, что старо, — не ново. Но представим себе еще одно измерение, пятое — вечность, которая включает и превосходит время. Она не просто «очень длинная», она вообще вне времени, время — в ней. Отсюда, из времени, она кажется и бесконечно старой, и бесконечно новой, она до него и после, Августин называет ее «слишком древней и слишком новой красотой»27. Тоскуя по бесконечно старому и бесконечно новому, мы тоскуем по вечности. Даже если бы мы добрались до золотого века, что там, до сотворения мира, — нам хотелось бы сделать еще один шаг назад, за предел времени, в разум Божий, от творения — к Творцу. Если бы мы дожили до утопии, нам захотелось бы ступить дальше, вперед, за пределы истории и мира, из времени — в вечность. Мы хотим приплыть по реке времени в океан вневременности, где обитает Тот, к Кому движется история. А как же восточный мистик? Подобно фермеру из Вермонта, который сказал горожанину: «Отсюда вам туда не попасть», мистик этот считает, что из времени не попасть в вечность. Время для него — не линия, а круг. Здесь, на Западе (и прежде, и теперь), время — линия, с концом и началом; так родятся оба наши пути, «путь альфа» и «путь омега». Мы исходим из нашей жизни, у которой есть начало и конец. Мы — гуманисты, и отсчитываем от человека. На Востоке отсчитывают от природы, у которой нет ни начала, ни конца. Она движется по кругу, и смерть в ней удобряет новое рождение. Как прочитать этот миф, какое желание он выразил? (Помните, миф повествует не о природе этого мира, а о природе нашего сердца!) Разве мы не хотим, чтобы времени было больше, а не меньше? Зачем же нам знать, что оно бессмысленно? Если мы прислушаемся к мудрецам древним, как Будда, и новым, как Кришнамурти, мы сможем понять, в чем тут дело. Время враждебно нам, ибо оно порождает страхи. Ведь боимся мы того, что будет; а не того, что есть. Некоторые психологи полагают, что девять десятых страданий — в душе, а не в теле. Порождает их страх, устраняет бесстрашие. Нет времени — значит, нет ни страданий, ни страха. Буддисты именуют это нирваной. Нирвана избавляет от сансары, т. е. от рождения и смерти, от прихода в бытие и ухода из бытия, словом, — от времени. Это блаженство, ибо избавляя от времени, оно избавляет от желаний, а с ними — от страданий и страха. Западному человеку, верующему или неверующему, это скорее не нравится. Цена нирваны — личность со всеми ее желаниями и страхами. Получается какая-то эвтаназия души; нашу самость лечат, вырезая самое «я». Так это или не так, нам это не подходит. Лучше наша дорога или нет, она другая. Я не знаю и знать не могу, ведет ли восточный путь к истинному Богу, — я по нему не ходил. Те же, кто ходили, говорят разное: одни, — что оба пути ведут в одно и то же место; другие, — что они ведут в места совершенно разные28. Наверное, нам ничего не сказано о чужих путях по той же причине, по какой Христос не ответил прямо, когда Его спросили, много или мало спасающихся, а сказал: «Подвизайтесь войти...» (Лк 13:23-24). Будда тоже не отвечал на спекулятивные вопросы. Ясно одно: путь наш — вперед, а не назад. Как только Адам и Ева пали, Бог послал ангела с пламенным мечом, чтобы преградить им дорогу в рай. Теперь путь их к Богу — «на восток от Эдема» (Быт 4:16), сквозь время, историю, борьбу, страдание, смерть — «Дом позади мира впереди»29. Изгнанные из Эдема через восточные врата, мы идем вокруг света, на восток, к восходящему солнцу, и у западных врат оно (Он) говорит нам: «Я — дверь...» (Ин 10:7). Человек, сказавший, что Он — Бог, вошел по горло в реку времени и сказал человеческими устами: «Я — путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). Воплотившийся Бог прибавил к Своей природе время, прибавив к божественному человеческое. Мы должны облечься во Христа, не совлекшись человеческого и временного, но оставшись в этих одеждах. Весь мир «стенает и мучается» с нами, и с нами искуплен (Рим 8:22). Бог не выуживает нас из реки — сеть Его так велика, что Он прихватит и реку. Удел наш — Христос, а у Него — две природы, не одна, Он не Брахма. Для восточной мистики мы вечны, для западной практики — временны, христианство же настаивает на несовместимом: и то, и другое. Христологические догматы описывают нашу природу и судьбу. Бог полюбил нас, временных и тленных, и пригласил на вечный . пир в святая святых. Можем ли мы Ему отказать? Мы ведь и сами хотим того же. ПОЧЕМУ НА НЕБЕ НЕСКУЧНО? Когда мы заглянем в сердце, мы видим небо, у которого две природы, как у Христа, — временная и вечная. Только это и решает неразрешимую проблему, из-за которой современные люди утратили вкус к небесам. Дело не в сомнении, а в скуке; не в том, что мы не верим в рай, а в том, что он нам неинтересен. Большинство из нас готово поверить во что угодно, мы слишком доверчивы. Но рай нас не привлекает, поскольку мысленный его образ не отвечает потребности сердца. Мы представляем себе рай как неизменное совершенство, иногда — в образах арф, облаков и сияний, иногда — без всякого образа. Быть может, для ангелов это и рай, а для человека — скорее ад. Картина эта так скучна, что мыслители нового времени нередко заменяют ее видами бесконечного прогресса. Лессинг, например, пишет (а Кьеркегор с одобрением его цитирует): «Если бы Бог держал в правой руке всю истину, а в левой — непрестанное стремление к истине (...) я бы смиренно склонился перед левой и сказал: "Отец, вручи мне Твой дар. Чистая истина — для Тебя одного"»30. Другими словами, лучше ехать куда-то и надеяться, чем прибыть на место. Это не так. Льюис в «Расторжении брака» разбил обычное заблуждение одним ударом: «Тогда бы никто никуда не ехал». Всякий, кто, сидя, стоя или даже лежа, читает сейчас эту книгу, свидетельствует о том же — ведь он сейчас на месте. Да, до поры до времени; но снова двинется в путь, и перед ним станет дилемма: в чем счастье — в том, чтобы карабкаться вверх, или в том, чтобы взглянуть с вершины? Карабкаться хорошо, но не без конца же! Когда-нибудь надо прийти домой. Но и дома засидеться скучно, хочется приключений. Самое неинтересное в сказках — последняя фраза: «Стали жить-поживать». Никто не описал эту жизнь интересно. Так можно ли не скучать на небе? Ответ разобьем на шесть частей. Первая — самая длинная, хотя суть ее уместится в одной фразе: вечность не движется по линии времени, она — вне этой линии, она трансцендентна ей. Однако она ей и имманентна; она — вся линия, целиком, как можно ее увидеть с конца. Вот почему, когда Божье око видит нашу жизнь в завершенном совершенстве, Бог может сказать тленным детям времени: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя!» Он говорит не о нас теперешних, а о нас целостных, о всей нашей жизни. Только вечность видит время как целое. Время пролито по земле, как вода из ведра. Вечность — вода в ведре; время, пришедшее домой. Боэций определил вечность как «целостное, совершенное, одновременное обладание бесконечной жизнью»31. С Божьей точки зрения, «любящим Бога все содействует ко благу» (Рим 8:28). Все тут, все цело, ничто не потеряно: «Я возвещаю ваше спасение. Вот, Я творю все новое. Вот, Я совершаю невозможное. Я восстанавливаю года, съеденные саранчой и червями. Я возвращаю все, что вы растеряли, ковыляя на своих костылях. Я воссоздаю симфонии и оперы, не проникшие в ваши глухие уши, и снежные горы, которых не видели ваши слепые очи, и свободу, растранжиренную вами, и самое ваше "я", утраченное через неправду, и восстановлю благо, которого вас лишили ваши дурацкие просчеты, и приведу вас к Любви, о которой говорила всякая любовь, к красоте и радости, которых вы искали по улицам, о которых плакали в подушку»32. Сейчас мы этого еще не видим, наша жизнь раздроблена, не закончена; но верить мы в это можем, потому что верим Богу. Если смотреть на нас из вечности, мы прекрасны. Мы из вечности не смотрим, а Бог — смотрит; мы же вправе верить из вечности. Поскольку время включается в вечность, оттуда оно выглядит иначе; все прошлое — рай для спасенных, ад для погибших33. Время поглощается вечностью, она — пятое измерение. Линия включает в себя точки, плоскость —линии, объемное тело — плоскость, время — объемные тела. Пятое измерение включает в себя четвертое, как в четвертое входит третье. Это не только удовлетворяет любопытство ума, но и помогает в частной, конкретной жизни. Благодаря этому вечность интересна, а не скучна. Стены дома довольно однообразны, если видеть в них плоскости. А вот если двухмерная стена — часть трехмерного обиталища, она оживает. И дом оживает, если он — часть четырехмерной жизни. Четырехмерная же наша жизнь — стена пятимерного дома на небе. И еще один насущный смысл: включая время, вечность включает и будущее с его новизной и прошлое с его надежностью. Вот почему к ней ведут две разные дороги; вот почему мы ощущаем ее как «красоту древнюю и новую». Кроме того, теперь мы поймем, почему она удовлетворяет две разные потребности сердца. Она не скучна, ибо не мертва, не отвлеченна, не статична. Ее по определению нельзя познать; определение же ее — время со всеми своими событиями, а их надо прожить, пережить. С другой стороны, она прочна и надежна, она не выскользнет из рук, ее не упустишь, ибо она есть, а не «будет», в неотменимом замысле Божьем. Она подобна состоянию христианина, который уже искуплен — и жаждет искупления, получил надежнейшую гарантию — и пребывает в «страхе и трепете», «совершает свое спасение» — и знает, что «Бог производит в нем и хотение и действие» (Флп 2:12-13). Она подобна этому, ибо только она и порождает такую странность. Поскольку вечность включает и прошлое, и будущее, становится ясно, почему, испытывая радость, мы как бы застываем вне времени и несемся к самому краю времен. В пределе это одно и то же, временные образы вечности смыкаются. «...Чем быстрее мы движемся, тем ближе к тому, чтобы находиться в двух местах сразу (...), если же двигаться все быстрее, мы в конце концов окажемся и впрямь во всех местах (...). Вот это и есть предел всех предметов — они так быстры, что обретают покой; так предметны, что их нельзя назвать предметами»34. Теперь станет понятней вездесущие Божье: оно не статично, а динамично, подобно скорее энергии, чем пространству. В физическом мире нельзя превысить скорость света. Бог ее превышает. Он всюду, ибо Дух движется с бесконечной скоростью. Наш человеческий дух тоже так движется. Мысли не нужно времени, чтобы перелететь от разума к разуму. Чем духовнее действие, тем оно быстрее. Когда псалмопевец призывает всех славить Бога, это не благочестивые чувствования, а безупречная метафизика. Хвала вездесуща, она — всюду. Дух действует так быстро, что время останавливается. Время, но не само действие. Именно время и замедляло его. Чтобы двигаться быстрее быстрого, надо выйти из времени. Быть может, западное линейное представление о времени не противоречит восточному циклическому, если концы линии упираются в вечность. Запад прав, время — линия, оно идет в одном направлении, от прошлого к будущему, от рождения к смерти, от сотворения мира к концу света, от абсолютного начала к абсолютному концу. Но и начало, и конец — это Бог, назвавший Себя альфой и омегой (Откр 22:13). Для Него вся линия — круг, ибо Он сводит ее концы. Время течет из Божьего сердца по артериям прошлого и возвращается в Него по венам будущего. История — сверхприродная система кровообращения. Наши сердца, созданные по образу Божьего, тоже выходят из времени. Все остальное в нас — тут, во времени, сердца же хотят «водвориться у Господа» (2 Кор 5:8) и тянут нас за собой. Другая метафора: мы — деревья, пустившие корни в скалу вечности, тогда как видимое в нас — ствол нашего «я», ветви свойств, листья поступков — колышется под ветром времени. Нам мало здешнего, природного, мы ищем в другом вечности, как искал Адам жену, равную себе (см. Быт 2:18-25). В друге или жене нам нужна вечность, под стать вечности в нас. «Бездна бездну призывает» (Пс 41:7). Мы находим ее в людях, но источник найдем лишь в Боге. Образы Божьи ведут нас к Образцу. Потому и «беспокойно сердце наше», пока в Нем «не успокоится». Потому и «приходит время, когда спросишь даже о Шекспире, даже о Бетховене — "и это все?"»35. Исконная вечность, в Боге, а не только производная, в человеке, нужна нам и потому, что мы, отдельные люди, — действительно, «род людской», единый, как дерево, тело или семья. Род этот одинок, если с ним нет Возлюбленного. Если Бога нет, мы превзойдем личный эгоизм в эгоизме нации, больше ни в чем. Все это — первая часть ответа на вопрос, почему на небе нескучно. Осталось еще пять, но они короче и проще. Второй ответ: вечность — не отсутствие перемен, ибо «отсутствие перемен» и значит, что время идет, а ничего не меняется. Она — как Ривендел у Толкина: «Время не идет здесь, оно просто есть»36. Вечность — не миллион лет, и не триллион триллионов, и не бесконечно длинная линия, а точка. Третий ответ — о том, почему неверно «лучше ехать, надеясь, чем прибыть на место». Так можно сказать только тогда, когда цель для тебя статична и абстрактна, а не динамична и конкретна. Абстрактно же, отвлеченно время, а не вечность, как абстрактна поверхность, сторона конкретного предмета или абсолютный предмет вне конкретного, временного события. У Льюиса есть беседа растерянного призрака из преисподней и духа с небес, объясняющего тому конкретность вечности: «— Пойди со мной. Поначалу будет больно. Истина причиняет боль всему, что призрачно. Но потом у тебя окрепнут ноги. Идем? — Занятное предложение... Обдумаю, обдумаю... Конечно, без гарантий рискованно... Я бы хотел удостовериться, что там, у вас, я могу быть полезен... могу развернуть данные мне Богом дары... что там возможно свободное исследование, царит, я бы сказал, духовная жизнь... — Нет, — сказал Дух, — ничего этого я тебе не обещаю. Ты не принесешь пользы, не развернешь дарований — ты получишь прощение. И свободное исследование там не нужно — я веду не в страну вопросов, а в страну ответов, и ты увидишь Бога. — Прекрасно, прекрасно, но ведь это метафоры! Для меня окончательных ответов нет. Ум обязан свободно исследовать, как же иначе? Движение — все, конечная цель... — Если бы это было правдой, никто и не стремился бы к цели. — Нет, согласись, в самой идее законченности есть что-то ужасное. Умственный застой губит душу. — Тебе так кажется, потому что до сих пор ты касался истины только разумом. Я поведу тебя туда, где ты усладишься ею, как медом, познаешь ее, как невесту, утолишь жажду»37. Четвертый ответ, с этим связанный, различает два действия воли: стремиться к отсутствующему благу и радоваться благу наличествующему38. Второе ровно так же активно, как и первое. Достигнув неба, воля не успокаивается в скуке; не занимается она и пустым делом. Она радуется. Созерцание по традиции выражается в образе игры; Премудрость играет пред лицом Божьим (Прем 24:15). Работа — река, текущая к морю; отдых — море в штиль; игра — море в непогоду или иначе, река, текущая вспять. Работа — наполнение пустого ведра; отдых — полное ведро; игра — водомет. Игра — образ неба, образ вечности. Неважно, сколько она длится — у нее нет цели, кроме действия. Мы не взбираемся в гору и не сидим на вершине, а гуляем, поем, дышим, нет — живем. Здесь, на земле, любая игра надоедает, мы рады ее кончить, ведь цель ее — конечна. Если же цель бесконечна, мы не захотим и не сможем прийти к концу. «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже! (...) Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка» (Пс 137:17-18). Пятый ответ: небо — не конец, а начало, не закат, а восход. Льюис говорит, что у всех великих историй лучше всего — начало, оно касается вечности, и никакие события этого выразить не могут. «В первой главе мы решаем найти Атлантиду, а дальше великая цель растворяется в событиях, ее не воплощающих. (...) Нередко это очень хорошо видно из названий. Может ли кто написать повесть "Колодец на краю света"»39? Сам он заменил «Стали жить-поживать» вот таким концом: «— Что-то ты не так весела, как надо бы, — сказал Лев. — Мы боимся, что нас отошлют домой, — сказала Люси. — Ты всегда отсылал нас. — Не бойся, — отвечал Аслан. — Разве ты не догадалась? Сердца у них забились от чудесной надежды. — Поезд на самом деле сошел с рельсов, — мягко сказал Лев.— (...) Каникулы начались. Сон кончился, настало утро. Пока он говорил, он терял обличье льва, но то, что случилось дальше, так прекрасно, что мне этого не описать. Для нас это — конец всех историй, и мы вправе сказать, что потом все жили счастливо. Для них же это — начало истинной повести. Вся их жизнь в этом мире и все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом; теперь они начали первую главу Великой Книги, которую не читал никто на земле, а каждая глава там — лучше предыдущей»40. Шестой ответ, наконец: даже сейчас здесь два небесных явления не скучны нам. Два вестника с небес («ангела») так захватывающе глубоки, что мы всякий раз находим в них что-то новое. Это любовь и мудрость. Под мудростью я разумею не знание, а ведение, под любовью — не amor , a caritas , агапе. Обе они родом с неба, обе вечны, но не скучны, а сильнее, чем смерть. Именно о них говорят мудрецы, мыслители, мистики и возвращенные к жизни пациенты, увидевшие отблеск неба41. Они готовы посвятить остаток жизни этим ценностям, единственно абсолютным в мире мелких мыслей и суетных отношений. Отблеск неба очистил зрение, и теперь они предлагают нам небесный образец. Они понимают слова: «Да приидет Царствие Твое (= мудрость и любовь), да будет воля Твоя на земле, как на небе». Небесная жизнь — неиссякаемый водомет Божьей мудрости и Божьей любви. Где ж тут соскучиться? Во времени на земле мудрость им поглощается; но если мы все же коснемся ее, мы ощущаем запах моря. Где бы ни обрели мы хоть сколько-нибудь любви и мудрости, мы — в морской, соленой воде. Земля — берег Божьего моря; когда мы мудры или когда мы любим, мы — дети, плещущиеся «в волнах бессмертных вод»42. А в полноте лет, сделавшись богами, мы будем взлетать на бурунах мудрости и погружаться в глубины любви. Радость пропитает нас, и скуку мы вспомним со смехом. 1 Автобиография К. С. Льюиса называется Настигнут радостью. А. М. Пятигорский называет ее Нечаянная радость; видимо, под этим заглавием она появится и в Дружбе народов. Пер. Т. Ч. — Прим. пер. 2 М. Магридж Иисус, открытый заново. 3 См.: К. С. Льюис Страдание. «Бог творит чудеса, но не чепуху. Мы не ставим пределов Его могуществу — ведь если мы скажем: "Бог может дать свободную волю и в то же время ее не давать", мы не скажем о Боге ничего. Бессмысленные сочетания слов не обретут значения оттого, что мы прибавим: "Бог может". Все, т. е. все вещи и действия, возможно Богу; но внутренне невозможное—не вещь и не действие, это ничто, нелепость». 4 См.: Исповедь, 1,1. 5 К.С. Льюис Настигнут радостью. 6 Отсюда название книги Ш. Ванокена. 1977. 7 См.: Исповедь. I ,1. 8 Суровая милость. 1977. Сл. Б. Мерилла, муз. Дж. Тайна. 9 Б. Паскаль Мысли, с. 160. 10 Суровая милость. Ш. Ванокен пересказывает здесь К. С. Льюиса, см.: Размышления о псалмах. 11 Намек на это во Втором послании к Коринфянам: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (5:2-4). 12 К.С.Льюис Страдание. 13 К.С. Льюис Джордж Макдональд. Антология. 1978 14 Там же. 15 К. С. Льюис Страдание. 16 Т. Хоуард Христос-Тигр. 1967. 17 Ш. Ванокен Суровая милость. 18 К. С.Льюис Исследуя скорбь. 1960. 19 К. С.Льюис Бремя славы. 1949. 20 Б. Рассел Мистика и логика и другие эссе. 1917. 21 Б. Паскаль Мысли, с. 201. 22 С Крейн «Человек сказал мирозданью» Стихи Стивена Крейна. 1966. 23 Э. Берт «Проповедь в Бенаресе» Учение сострадательного Будды. 1955. 24 См.: К. С. Льюис Исследуя скорбь. 25 См.: М. Элиаде Священное и профанное. Природа религии: «...по самой своей природе священное время обратимо (...) это — первоначальное, мифическое время, ставшее настоящим». 26 См.: К. С. Льюис Похороны великого мифа. 27 См.: Исповедь, 10, 27. 28 По-видимому, здесь (как и везде) возможны три пути:
29 Промыслительная ошибка — так прочитали строку из песни хоббитов (на самом деле — «Дом позади, мир впереди»). — Прим. пер. 30 «Тезисы, которые можно приписать Лессингу» Антология Кьеркегора. Нью-Йорк, 1936. 31 Боэций Утешение философией. 32 Т. Хоуард Христос-Тигр. 33 См.: К. С. Льюис Расторжение брака. 34 К. С. Льюис За пределы безмолвной планеты. 35 О. Хаксли. См.: X . Смит Религии человеческие. Нью-Йорк, 1958. 36 См.: Хранители, т. I . 37 См.: К. С. Льюис Расторжение брака. 38 См.: св. Фома Аквинат Summa Theologiae , I а — II ас, 3, 4. 39 К. С. Льюис «Об историях» Об иных мирах. Нью-Йорк, 1966. 40 К. С. Льюис Последняя битва. 41 Р. Моуди Жизнь после жизни. Нью-Йорк, 1976. 42 У. Вордсворт Размышления о бессмертии при воспоминании раннего детства. |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|