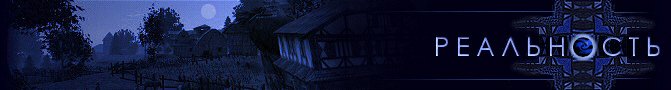|
|
|
|
|
|
|
|
|
С.Л. ФранкСвет во тьмеРеальность.ru / Книги / С.Л. Франк / Свет во тьме |
Глава перваяДУХОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НАШЕГО ВРЕМЕНИКакой практический, жизненный смысл имеет то, о чем мы выше говорили? Я далек от намерения заниматься самодовлеющим отвлеченным богословским умозрением. Богословская истина есть всегда истина, как путь и жизнь. Все остальное есть ненужная «литература». Я думаю, что богословская, т. е. в своей основе чисто религиозная, проблема «света и тьмы», на которую дает какой-то глубокий и таинственный ответ рассмотренный нами стих 1, 5 Евангелия Иоанна, есть, быть может, самая мучительная, но и самая насущная проблема человеческой жизни. И, будучи таковой, она приобретает особую остроту именно в переживаемую нами эпоху. Можно сказать, что в проблеме «света и тьмы», в идее света, светящегося во тьме, – т. е. в сочетании двух основоположных мыслей – непонятного, противоестественного и все же фактически очевидного упорства тьмы перед лицом света и возможности веры в свет, несмотря на это упорство тьмы, – сосредоточены и все мысли и сомнения, и все упования, к которым сознание европейского человека пришло в итоге опыта истекших десятилетий XX века и в особенности страшного опыта последней войны – все, в чем в результате этого опыта наша вера, наши убеждения принципиально отличаются от господствующих воззрений XVIII-XIX веков. Люди, первые нравственные убеждения которых сложились еще под влиянием идей XIX века, не могут не сознавать – поскольку они сохранили вообще способность учиться из опыта жизни, – что они получили и получают какой-то жизненный урок первостепенной важности, – урок, обличающий многие, и притом самые существенные их прежние убеждения как иллюзии и ставящий перед ними новые, мучительные проблемы. И политические события XX века – то обстоятельство, что, начиная примерно с 1914 года, европейское человечество вступило в длительную эпоху разрушительных войн и огромных внутренних потрясений, кульминировавших в апокалиптических событиях дикого разгула зла последних лет, – и отчасти этим обусловленные, отчасти независимо от этого возникшие изменения в понятиях и убеждениях европейского мира дают в общем итоге бесспорное впечатление, что в XX веке наступила какая-то совершенно новая историческая эпоха. Когда мы теперь оглядываемся назад и сравниваем нашу трагическую эпоху с сравнительно мирной и благополучной эпохой второй половины XIX века, разница в стиле жизни и мысли обеих эпох бросается в глаза. И если мы спросим себя, в чем состоит существо этого различия, то, я думаю, мы должны будем признать, что это различие в значительной степени определено новым опытом упорства и могущества зла в мире. 1. «Власть тьмы»Когда первосвященники и старейшины еврейского народа с толпой служителей пришли в Гефсиманский сад, чтобы арестовать Иисуса, Он сказал им: «Теперь – ваше время и власть тьмы» (Лук. 22, 53). Я думаю, многие люди, если хотят подвести итог горькому жизненному опыту современности, не могут найти лучшего выражения, чем эти слова. Основное, решающее впечатление от всего, что пришлось пережить европейскому человечеству за это последнее время, есть впечатление власти тьмы в мире. Силы зла и разрушения торжествуют над силами добра, заблуждения по общему правилу оказываются могущественнее истины, слепая игра иррациональных сил – в личной жизни или в жизни исторической – полагает предел всем упованиям человеческого сердца. Таково доминирующее впечатление, которое мы имеем от жизни. Оно ведет к убеждению, что все доброе, разумное, прекрасное, благородное есть в мире и редкое исключение, и нечто чрезвычайно хрупкое и слабое, всегда подавляемое силами зла и тонущее среди них. Общий фон и как бы основную, господствующую сущность мирового бытия составляют силы противоположного порядка – слепые, стихийные страсти корысти, ненависти, властолюбия и даже бессмысленного, порочного садизма. То, что еще 40 лет тому назад – отчасти даже только 10 лет тому назад – казалось абсолютно невозможным в европейском человечестве, воспитанном на началах античной культуры, христианского сознания и великого гуманитарного движения новой истории, – рабство, по жестокости далеко превосходящее его формы в древности, массовое истребление целых народов, обращение с человеком, как со скотом, циничное презрение к самым элементарным началам права и правды – осуществилось с поразительной легкостью. Так называемый культурный человек внезапно оказался обманчивым призраком; реально он обнаружил себя неслыханно жестоким, морально слепым дикарем, культурность которого выразилась только в одном – в изысканности и усовершенствовании средств истязания и убийства ближних. Сто лет тому назад проницательный русский мыслитель Александр Герцен предсказывал нашествие «Чингисхана с телеграфами». Это парадоксальное предсказание оправдалось в масштабе, которого не мог предвидеть Герцен. Новый Чингисхан, родившийся из недр самой Европы, обрушился на нее воздушными бомбардировками, разрушающими целые города, газовыми камерами для массового истребления людей и грозит теперь смести человечество с лица земли атомными бомбами. Конечно, легко пытаться ослабить ужас и принципиальную значительность этого сознания ссылкой на то, что в этом повинны отдельные народы или отдельные овладевшие ими морально-политические доктрины. Это столь обычное для человека, особенно в моменты одержимости страстями вражды, фарисейское настроение не только морально ложно, но и чисто теоретически основано на жалком недомыслии. Конечно, нельзя отрицать, что нравственные и духовные начала оказались у одних европейских народов более прочными и устойчивыми, чем у других. Но это не отвечает на вопрос, почему в лоне европейского человечества, единого и по расе, и по исторической культуре, могло так легко зародиться и окрепнуть новое варварство. Для кого идея христиански-европейского человечества, христианского мира («chrétienté») не есть пустое слово, тот не может подавить в себе покаянного сознания, что этот христианский мир, как целое, ответствен за происшедшую в нем моральную катастрофу. Германский народ не менее других европейских народов был носителем христианской культуры; в лице своих великих мистиков он нашел одно из самых глубоких выражений христианского духа; он породил реформационное движение, которое, несмотря на все его позднейшие заблуждения, содействовало возрождению церкви; и среди своих великих мыслителей и поэтов он еще так недавно имел таких общепризнанных представителей европейского гуманизма и наставников человечества, как Кант и Гёте. Его неожиданное впадение в неслыханное варварство должно поэтому восприниматься как проявление духовного заболевания всего европейского человечества как единого целого. Это было подтверждено фактом заразительности этого заболевания. До начала войны национал-социализм (как и до него фашизм) встретил неожиданное снисходительное, терпимое и даже благосклонное отношение к себе и приобрел убежденных сторонников едва ли не во всей Европе; а во время войны во всех оккупированных и вассальных государствах Европы легко удалось воспитать целые кадры людей, применявших эту варварскую доктрину с не меньшей бесчеловечностью, чем сами немцы; популярное утверждение о прирожденной склонности немецкого народа к жестокости и презрению к человеческой личности перед лицом этих фактов обнаруживается как лицемерие или глупость. Факты неопровержимо свидетельствуют, что очень многих европейцев, казалось, проникнутых христианско-гуманитарной культурой, при известных условиях легко превратить в течение весьма короткого времени в варваров и извергов. И так же близоруко усматривать последний источник зла только в определенной доктрине. Доктрина есть только внешняя оболочка и идеологическое оправдание для инстинкта зла, дремлющего в душе человечества; весь ее успех состоит в том, что она потакает разнузданию этого инстинкта. Где этот дух зла становится активным и ищет обнаружения, он легко найдет себе оправдание и в других доктринах; и кто духовно еще не совсем ослеп, тот знает, что, например, победоносный враг национал-социализма и фашизма, русский коммунизм, – есть лишь другая разновидность того же культа зла и бесчеловечности и что после военной победы над национал-социализмом опасность крушения моральных основ общежития и всей человеческой жизни только изменила свою форму, но остается не менее грозной. Но надо идти еще дальше. Если национал-социализм и коммунизм можно и должно рассматривать только как две разновидности одного и того же зла «тоталитаризма», подавления человеческой личности бесчеловечной машиной абсолютного государства, то надо признать, что и «тоталитаризм» во всех его разновидностях есть только одна из форм, а не сама сущность безнравственности и бесчеловечности. Дух ненависти, цинизма, презрения к человеческой жизни гораздо шире и более распространен, чем какая-либо доктрина; за время войны он естественно сделал огромные, жуткие завоевания, овладев душами принципиальных противников «тоталитаризма». Кому из нас за эти годы не случалось встречать добрых, культурных людей, убежденно проповедовавших поголовное истребление или порабощение всего немецкого народа? И каковы бы ни были аргументы в пользу военной целесообразности употребления атомной бомбы – в мировую историю войдет навеки, как несмываемый позор человечества, факт, что первое применение метода войны с помощью искусственного землетрясения и внезапной гибели сотен тысяч невинных людей принадлежит англо-саксонскому миру, общепризнанному носителю начал права и уважения к человеку. Нет, надо иметь мужество смотреть правде в глаза. Все пережитое нами за последние годы и уже задолго до этой катастрофы смутно предчувствуемое – свидетельствует об одном. Дух зла не сосредоточен в каких-либо отдельных конкретных его носителях, и одолеть этих носителей с помощью военного разгрома не значит победить и уничтожить самый дух зла: он обладает таинственной способностью, как искры пожара, перескакивать из одной души в другую; он, как феникс, возрождается из пепла в неожиданных новых формах. Ибо он искони таится в душе человечества, есть некая сверхчеловеческая сила, не одолимая никакими чисто человеческими усилиями и внешними мерами. Он есть истинный «князь мира сего», и потому мир находится во «власти тьмы». Современный немецкий философ Николай Гартманн выражает свое пессимистическое впечатление от мира в общем метафизическом утверждении, что уровень бытия обратно пропорционален его силе, – что высшее, будучи производной надстройкой над низшим, всегда слабее последнего. Силы духовного порядка слабее сил животных, силы органического мира слабее сил мира неорганического. Но нет даже надобности признавать эту формулу, чтобы усмотреть власть тьмы над миром. Достаточно ограничиться скромным и уже совершенно бесспорным сознанием, что в мировом бытии просто не дано никаких гарантий для торжества начал добра и разума – другими словами, что между ценностным уровнем какого-либо проявления мирового бытия и его реальной силой или влиятельностью во всяком случае нельзя установить никакой прямой пропорциональности. Природа, структура мирового бытия – включая сюда и область истории, т. e. судьбы человека, – по-видимому, равнодушна к добру и злу, правде и неправде, разуму и глупости. В этом смысле «царство мира сего» представляется с совершенной очевидностью «властью тьмы». Конечно, эта мысль о «власти тьмы» в мире, как и евангельская идея о «свете во тьме», вообще говоря, суть истины, столь же старые, как жизненный опыт или как дерзновенно верующее – вопреки всякой очевидности фактического порядка – человеческое сердце. В каком-то смысле вера была во все времена верой в эмпирически невозможное, в то, что противоречит трезвому, рассудочному опыту жизни. И, с другой стороны, издавна верующее или ищущее веры сердце мучается сомнениями, будучи не в силах согласовать свою веру, свое искание правды с бессмысленностью и несправедливостью человеческой судьбы в мире: достаточно вспомнить книгу Иова, пессимизм «Экклезиаста», скорбное недоумение о жизни древнегреческих поэтов, начиная уже с Гомера. Но если во все времена существовало разногласие между содержанием веры и объективным порядком вещей, как его констатирует опыт и рассудочное познание, – если во все времена невинные страдальцы ставили себе вопрос Иова и человеческое сердце мучилось тем, что зло так часто побеждает на земле, а добро гибнет, – то все же общие представления о строе и течении мирового бытия, будучи вообще различными в разное время, давали также и совершенно различные ответы на вопрос о соотношении между содержанием веры и содержанием жизненного опыта или научного знания. Так, например, древнееврейский народ представлял себе всемогущего Бога – творца неба и земли – вместе с тем своим политическим покровителем, непосредственным руководителем судьбы израильского народа – «Богом брани», дарующим Израилю победу над врагами и обеспечивающим ему политическое могущество. Другими словами, содержание религиозной веры и содержание исторического знания и политической мудрости казались тогда просто совпадающими между собой. С другой стороны, античному греку мир – «космос» – представлялся непосредственным воплощением божественного разума и божественной гармонии: содержание религиозной веры (по крайней мере, философски очищенной веры) находилось в полном согласии с данными астрономии, физики, биологии и находило в них свое подтверждение. Но, быть может, в максимальной мере гармония между верой и знанием была достигнута в средневековом миросозерцании, сочетавшем христианское религиозное сознание с античным естествознанием и античной метафизикой. Если мы возьмем картину мира, как она выражена, например, в философии Фомы Аквинского или в «Божественной комедии» Данте, то мы останемся под сильнейшим впечатлением, как лучшие умы той эпохи – несмотря на вековечный опыт торжества зла и неразумия на земле – имели твердое убеждение, что строение мира и ход мировой жизни определены началами религиозного порядка. Религиозная мораль, эсхатология, мечта о царстве небесном гармонично укладывались в рамки картины мира, которую рисовала научная космология. Бог как любовь – эта самая возвышенная и, казалось бы, самая «неземная», самая невероятная с точки зрения объективного знания идея христианской веры – был для Данте той самой космической силой, которая движет Солнцем и всеми звездами (l'amor che muove il sol e l'altre stelle). Это было время, когда людям искренно казалось, что – несмотря на всю видимость обратного – все в мире, рост каждой былинки и движение небесных тел, судьба каждого отдельного человека и историческая судьба человечества, не только вообще совершается разумно, в согласии с Божественным промыслом, но что это согласие, утверждаемое верой, может быть объективно обнаружено всем опытом жизни и научным знанием. Казалось, что картина строения мира, открываемая научной и философской мыслью, как и исторический опыт, непосредственно подтверждают религиозное упование человеческого сердца. Истины Евангелия оказывались в согласии с истинами астрономии и физики, истории и политической философии. Нам нет надобности описывать историю человеческой мысли, опрокинувшей эти представления, и объяснять, почему именно они стали для нас теперь невозможными. Ясно, что непроходимая бездна отделяет восприятие мира и жизни в сознании нового человека от такого рода идей. Различие здесь настолько велико, что сравнение становится почти невозможным и малопроизводительным. Оставляя поэтому в стороне этот столь далекий нам теперь образ мыслей, остановимся только на том контрасте, который поучителен для определения своеобразия идей XX века. Как уже указано, наше время существенно отличается от представлений совсем недавнего прошлого, и притом представлений, составлявших убеждение наиболее передовых, научно образованных кругов европейского общества. Мы разумеем, быть может, самую характерную черту духовного кризиса нашего времени – крушение веры в так называемый «прогресс» человечества. Смутно предчувствуемая с эпохи ренессанса, идея «прогресса», т. е. предопределенного совершенствования – умственного, нравственного, общественного – человеческой жизни была фиксирована в последнюю треть XVIII века в умственных построениях Тюрго, Лессинга, Кондорсэ. Из сочетания веры в высшее призвание человека – веры, неосознанно родившейся из семени христианства, – с наивным рационализмом родился исторический оптимизм, составляющий основу мировоззрения лучших, самых просвещенных и благородных людей конца XVIII и всего XIX веков. Этот исторический оптимизм, эта вера в «прогресс» были верой в предопределенность скорого осуществления абсолютного добра – «царства Божия» – на земле. В эту эпоху (конец которой еще так близок нам и отголосками которой еще доселе живут многие некритические умы нашего времени) человечество жило верой в легкую, заранее обеспеченную победу добра и разума над злом и неразумием; ему казалось, что оно идет прямой дорогой, не встречая серьезных препятствий, к осуществлению идеального состояния человеческого бытия; и либерализм, и сменивший его позднее социализм были только различными вариантами этой веры в обеспеченную скорую осуществимость на земле всей полноты правды. Человечество жило уверенностью в осуществимость высшей, последней своей мечты. В этой уверенности вера, как сокровенное и дерзновенное упование человеческого сердца, казалось, совпадала с объективным, разумным знанием действительности – с достижениями точной и строгой науки. Вера в «прогресс» могла быть верой в «эволюцию», т. е. в непрерывное, постепенное, органическое и потому мирное совершенствование человеческой природы и условий человеческой жизни, или же она могла быть верой – согласно знаменитой формуле Маркса – во внезапный «скачок» человечества «из царства необходимости в царство свободы» – из царства зла и бессмыслия в царство добра и разума. Но в обоих случаях она была тем, что мы теперь называем довольно варварским, но выразительным словом «утопизм»: в ее основе лежала, как указано, вера в осуществимость и в предопределенное осуществление абсолютного добра в мире. Для этого мировоззрения характерно, что «власть тьмы» представлялась ему либо случайным (и в сущности непонятным) недоразумением в истории человечества (ввиду признаваемой прирожденной «разумности» и «благости» человеческой природы), либо, во всяком случае, временным и противоестественным состоянием человеческой жизни. Нормальным, естественным состоянием признавалась, наоборот, «власть света», осуществление которой считалось поэтому и легким, и обеспеченным. Это воззрение развивалось по большей части в оппозиции к религии – не только к вере, как она исповедовалась и проповедовалась христианскими церквами, но и к религиозной вере вообще; его сторонники обычно считали себя «неверующими»; однако по существу оно, как уже указано, состояло из убеждения, что объективно познанная природа мира и человека согласуется с упованием человеческого сердца, именно с верой в конечное торжество «света», т. е. добра и разума, и даже прямо подтверждает эту веру, придает ей характер достоверного знания. Но именно эта вера представляется в настоящее время мыслящему человеку, т. е. человеку, сознательно пережившему исторический и духовный опыт последних десятилетий, в буквальном смысле слова допотопной, т. е. предшествовавшей историческому «потопу» XX века и перед лицом этого потопа опытно обнаружившей свою несостоятельность. Нет надобности здесь подробно разбираться в спорном еще во многих отношениях значении исторических событий нашего времени. Ясно, во всяком случае, одно: вере в «прогресс», в непрерывное и прямолинейное материальное, умственное и нравственное совершенствование человечества, пережитый нами исторический опыт нанес непоправимый удар. Теперь наша мысль уже не охвачена идеей «прогресса»: она, напротив, прикована к тому, о чем люди недавнего прошлого странным образом совсем забыли, – к историческим явлениям крушения великих цивилизаций и смены их долгими, многовековыми эпохами варварства. Мы не можем уже теперь думать, что «власть тьмы» есть только случайное, временное состояние мира и что она непрерывно прогоняется, побеждается властью разгорающегося света. Нас занимают здесь не политика и не история как таковые. И было бы, конечно, легкомысленно и неумно на политическом опыте двух-трех десятилетий строить какое-нибудь общее философско-историческое мировоззрение – с помощью фактов, совершившихся в короткий период времени, пытаться доказать истины, долженствующие иметь общее значение. Об этом здесь не может быть и речи. Мы упоминаем об этих основных чертах переживаемой нами эпохи не в качестве достаточных оснований для общих выводов философского порядка, а лишь отчасти в качестве поводов для возникновения нового мировоззрения, отчасти в качестве естественных его иллюстраций. Под влиянием ли этих исторических событий или даже, может быть, независимо от них и отчасти даже до них, в силу некой необъяснимой внутренней эволюции духовной жизни, совершилось нечто, что мы здесь просто констатируем как бесспорный факт: крушение веры – имевшей еще недавно значение аксиоматической достоверности— в прогресс, в безостановочное совершенствование человека, в непрерывную, самим устройством мира и человека предопределенную победу света над тьмой. Эта вера сменилась теперь если не обоснованным убеждением, то безотчетным, но острым сознанием власти над миром и человеком темных сил – «власти тьмы». Или, употребляя другое выражение, принадлежащее тому же апостолу Иоанну, который написал загадочные слова о свете, светящем во тьме, слова «весь мир лежит во зле» перестали теперь быть для нас привычной, условной церковной формулой и стали серьезной и горькой правдой. Если есть жизненное убеждение, владеющее всеми нами, то это есть именно невольное, горькое, но неустранимое впечатление – прямо противоположное еще недавней вере в предопределенность прогресса, – что миру свойственно упорствовать во зле, что зло есть какая-то огромная, страшная сила, властвующая над миром и как-то имманентно ему свойственная. Под этим впечатлением не только рушится и обнаруживается, как гибельное заблуждение, наивно оптимистическая вера в предопределенность и легкое и скорое торжество добра над злом, но слагается прямо противоположное ей убеждение, что борьба между добром и злом есть – в пределах мирового бытия – некая вековечная борьба. Не только задача одоления мирового зла не легка, а, напротив, мучительно трудна, не только ее благоприятный исход не предопределен заранее, но меняется и самое понимание ее смысла и существа. Так как «весь мир лежит во зле» и зло имманентно присуще миру и человеческой природе, то борьба против него имеет смысл совершенно независимый от веры в победу над ним – более того, имеет смысл при уверенности, что окончательная победа добра – в пределах мирового бытия – невозможна. Это не есть дефэтизм, горькая резиньяция [défaitisme – пораженчество (франц.); résignation – покорность судьбе, смирение, безропотность (франц.)] перед лицом зла; напротив, так как становится ясным, что торжество зла означает просто конец жизни – достаточно снова вспомнить об угрозе «атомной войны», – то долг и необходимость напряженной и неустанной борьбы против зла ощущаются с предельной остротой. Чем более глубокими сознаются корни зла, тем более настоятельной представляется борьба с ним. Что эта борьба должна в пределах мировой истории длиться вечно, – не умаляет ее значения и ее необходимости; из того, что и каждый человек в отдельности, и человечество в целом до конца своей жизни должно обороняться от разрушительных сил зла, не следует, что эта борьба бессмысленна и должна прекратиться. Жизнь, полная мучительных трудностей и трагизма, все же лучше гибели, смерти и разложения; и мужество в сочетании с трезвостью выше, значительнее, в каком-то смысле разумнее мужества, питаемого только иллюзиями. Нужда в оптимистических иллюзиях только обличает, что человек внутренне не готов к тягчайшим испытаниям борьбы; и питаться этими иллюзиями – значит рисковать капитулировать перед подлинной трудностью борьбы, быть не в силах переносить героический смысл человеческой жизни. В остроте и отчетливости для нас впечатления о вековечности борьбы между силами света и силами тьмы, в невозможности для нас каких-либо воззрений – все равно, научных или богословских, – основанных на его игнорировании, заключается духовное своеобразие нашей эпохи. 2. Кризис гуманизмаЭто убеждение во «власти тьмы» над миром, которое так характерно для духовного состояния нашей эпохи, имеет еще одну сторону, заслуживающую самого пристального внимания. А именно, по сравнению с описанным выше мировоззрением недавнего прошлого оно может быть определено как кризис веры в человека – как кризис гуманизма. В основе веры в прогресс – в предопределенное совершенствование человека – и утопизма – веры в осуществимость на земле полноты правды и добра – лежала вера в достоинство человека и его высокое назначение на земле, короче говоря – вера в человека. Происхождение этой веры в человека связано с одним глубоким недоразумением, которое определило характер ее типического обоснования и оказало роковое влияние на ее судьбу. Не подлежит ни малейшему сомнению, что по существу эта вера – христианского происхождения. В христианском откровении ветхозаветное представление о человеке как «образе и подобии Божием», как о существе привилегированном, состоящем под особым покровительством Бога и призванном властвовать над всем остальным творением, было заострено в идее богосыновства человека, в понятии о человеке как носителе духа и в этом смысле существе, рожденном «свыше», «от Бога». Однако, по странному недоразумению, о смысле и причинах которого нам придется подробнее говорить ниже в другой связи, этот источник веры в человека остался неосознанным, и «гуманизм» нового времени возник в прямой оппозиции христианскому мировоззрению, и именно в такой форме он определил характер веры в человека вплоть до нашей эпохи. Чувство веры в самого себя и в свое великое назначение на земле, охватившее человека с начала эпохи, которую принято называть «новым временем», испытывалось им как некое совершенно новое сознание, как некая духовная революция против освященного церковью общего стиля средневекового жизнепонимания. Это рождение гуманизма нового времени носило характер некого гордого восстания человека против сил, его порабощавших и унижавших. Один из первых и самых влиятельных его провозвестников, Джордано Бруно, определял пафос этого нового самосознания человека как «героическую ярость» (heroïce furore). Вначале эта вера в человека, несмотря на свою резкую оппозицию к средневеково-христианскому мировоззрению, была все же обвеяна некой общей религиозной атмосферой. В эпоху ренессанса гуманизм стоит в связи с пантеистическими тенденциями, с опровержением принципиального различия между земным, «подлунным», и небесным миром или с платонистической идеей небесной родины человеческой души. Точно так же Декартова вера в человеческий разум была верой в «lumiere naturelle» [Естественный свет (франц.)]: верховенство и непогрешимость человеческого разума основывались на том, что в своем разумном познании, в своих «ясных и очевидных идеях» человек является носителем «lumière naturelle» – по существу божественного «света»; и последователь Декарта Мальбранш мог даже еще сочетать это воззрение с благочестивой мистикой августинизма. Известно также, что пуританские переселенцы в Америку, впервые провозгласившие «вечные права человека и гражданина», обосновывали эти права святостью личного отношения человека к Богу. И эта связь веры в человека с верой в Бога в форме «естественной религии» звучит еще у Руссо. Но в общем именно в XVIII веке, в эпоху французского «просвещения», совершается окончательный разрыв между этими двумя верами: вера в человека в эту эпоху вступила в характерную для гуманизма нового времени оппозицию ко всякой религиозной вере вообще; она сочеталась с религиозным неверием, с натуралистическим и материалистическим мировоззрением. В этом сочетании и заключается существо того воззрения, которое властвовало над человеческой мыслью в течение последних двух веков и которое можно назвать «профанным гуманизмом». Но гуманизм в этой его форме содержал в себе глубокое и совершенно непреодолимое противоречие. Культ человека, оптимистическая вера в его великое призвание властвовать над миром и утверждать в нем господство разума и добра сочетаются в нем с теоретическим представлением о человеке как существе, принадлежащем и царству природы и всецело подчиненном ее слепым силам. Уже французские материалисты XVIII века делали отсюда вывод, в сущности, несовместимый с верой в человека: они утверждали, что универсальный мотив человеческого поведения есть эгоизм, или даже, что человек есть не что иное, как своеобразная машина («l'homme-machine» [Человеко-машина (франц.)]) . Если, несмотря на это, в XVIII и в первой половине XIX в. можно было все же веровать в особое, высшее иерархическое место человека в мироздании, то эта вера основывалась на исконном представлении о человеке как существе особого, высшего порядка, принципиально отличном от остального животного мира; так, можно было верить, что отличительной чертой человека является обладание разумом (homo sapiens) или нравственным сознанием. Но теоретической основе этих предположений (с самого начала довольно смутных) был нанесен сокрушительный удар дарвинизмом. Дарвинизм разрушил давнее, исконное положение о принципиальном отличии человека от остального природного мира и заменил его представлением, что человек есть просто часть животного мира, близкий родственник обезьяны, потомок обезьяноподобного существа. Уже на нашей памяти антропологический мотив дарвинизма – научное обличение гордыни человеческого самосознания – нашел еще новое подтверждение в учении психоанализа (этот смысл психоанализа подчеркивает сам его творец, Фрейд): мало того, что человек оказался обезьяноподобным существом; отныне он признан комочком живой плоти, вся душевная жизнь и все идеи которого определены слепым механизмом полового вожделения; не разумное сознание, не дух и не совесть, а слепые хаотические подсознательные силы правят человеческой жизнью Эти разрушительные удары по всем представлениям, на которые могла бы объективно опираться вера в высокое достоинство и назначение человека (удары, в сущности, неизбежные в силу основной натуралистической установки, с которой был связан профанный гуманизм), в течение долгого времени (а для эпигонов этого воззрения даже доселе) непонятным образом не уничтожали чисто иррациональной власти над сердцами этой веры в человека. Другими словами, профанный гуманизм с течением времени все больше становился, вопреки своему сознательному умыслу, слепой псевдорелигиозной верой. Так постепенно складывалось парадоксальное, тягостное и чреватое опасностями положение. Профанный гуманизм – по своим первоначальным практическим плодам воззрение не только необычайно влиятельное и могущественное, но и глубоко благотворное, – предмет самоотверженной восторженной веры лучших людей XVIII и XIX веков, учение, которому европейское человечество обязано лучшими своими достижениями – отменой рабства, политической свободой и гарантиями неприкосновенности личности, социальными и гуманитарными реформами, – в своей традиционной форме оказывался явно противоречивым, несостоятельным. Это настолько теперь очевидно, что мы не можем без некоторого чувства недоумения и вместе с тем скорбного умиления вспоминать о легковерии человеческого сердца, которое могло им увлекаться и в него веровать. Один из самых тонких и передовых умов XIX века, мыслитель, далеко опередивший свою эпоху и, может быть, первый остро переживший кризис профанного гуманизма, русский писатель Александр Герцен, писал в своей исповеди «С того берега» (под непосредственным впечатлением крушения идеалов движения 48-го года): «Объясните мне, наконец, почему нельзя верить в Бога – и нужно верить в человека? Почему глупо верить в царство Божие на небесах, и не глупо – в царство Божие на земле?» А в конце XIX века русский же мыслитель Владимир Соловьев резюмировал мировоззрение натуралистического гуманизма – миросозерцание, по которому человек, будучи продуктом слепых животных сил природы, вместе с тем призван осуществить на земле царство добра, разума и справедливости – в убийственно иронической формуле: «Человек есть обезьяна и потому должен полагать душу свою за ближнего». И если такой полуобразованный эпигон профанного гуманизма, как Максим Горький, мог еще недавно написать хвалебный гимн человеку и наивно восклицать: «Человек – это звучит гордо!», – то человеку мыслящему и образованному естественно противопоставить этому недоумение: почему именно должно «звучать гордо» имя существа, принципиально не отличающегося от обезьяны, – существа, которое есть не что иное, как продукт и орудие слепых сил природы? Как бы упорно ни продолжала европейская мысль слепо утверждать веру, все объективные основания которой уже были разрушены, это противоречивое духовное состояние не могло быть прочным и длиться неопределенно долго; противоречие должно было, в конце концов, изнутри взорвать и разрушить само миросозерцание гуманизма. Еще в 40-е годы XIX века, в эпоху наиболее страстного напряжения веры профанного гуманизма, одинокий немецкий мыслитель смело и цинично утверждал естественное право человека, в согласии с его подлинной природой, отвергать всякое служение высшим идеалам и быть открыто беззастенчивым эгоистом (Макс Штирнер). Этим был сделан единственный логический вывод из гуманистического учения Фейербаха, провозгласившего человека самодовлеющим абсолютом и признавшего, что в религии, в идее Бога человек только иллюзорно отчуждает от себя и гипостазирует свою веру в себя самого, в свое абсолютное верховенство. Нигилистическая теория Штирнера была, однако, только первой, практически еще безрезультатной атакой на твердыню гуманистической веры. Но другой ученик Фейербаха вскоре после этого пришел к учению, которому суждено было не только внести в мир величайшие потрясения, но и сокрушить самые основы гуманистической веры. Знаменательное совпадение: в год появления «Происхождения видов» Дарвина (1859) появилась также книга Карла Маркса «Критика политической экономии», в предисловии к которой было впервые систематизировано роковое для судьбы профанного гуманизма учение «экономического материализма». В качестве веры в близкое и предопределенное осуществление социализма как абсолютного торжества разума и добра в человеческой жизни (веры, которая здесь даже принимает облик точного научного предсказания) марксизм продолжает традицию оптимистической веры в прогресс – этого основного мотива профанного гуманизма. Но природа человека здесь уже прямо определяется не как добрая и разумная, а как злая и корыстная: основным фактором истории оказывается корысть, борьба классов за обладание земными благами, ненависть между богатыми и бедными. И величайшим характерным парадоксом марксизма, обнаруживающим уже очевидное разложение гуманизма, является учение, что единственный путь, приводящий к царству социализма, к царству добра и разума, есть разнуздание классовой борьбы, – разнуздание злых инстинктов человека. В марксизме вера в человека и его великое будущее основана на вере в творческую силу зла. Совсем не случайно с этим сочетается замена человека как индивидуальной личности культом «класса» или «коллектива». Ибо если все высшее, благое, духовное осуществляется в облике человека как индивидуальной личности (так как именно личность есть образ Божий в человеке), то стихийная сила зла воплощается более адекватно в человеке как безличной частице толпы, массы, коллектива. Естественно поэтому, что марксизм есть уже нечто иное, чем профанный, арелигиозный гуманизм: он есть «гуманизм» сознательно антирелигиозный и антиморальный. Вера в человека противопоставляется здесь не только вере в Бога, но и вере в добро. В марксизме гуманизм задуман уже как титанизм, как вера в торжество бунтовщического начала в человеке, осуществляемое через разнуздание сил зла. Противоречие между представлением о назначении и будущем человека и представлением о его подлинной природе или между целью человеческого прогресса и средствами его осуществления достигает здесь уже такого напряжения, что можно говорить уже о внутреннем разложении в марксизме гуманистической идеи. Конец XIX века принес еще другое многозначительное явление разложения профанного гуманизма. Оно выражено в идеях Ницше. Величайшая заслуга Ницше заключается в том, что в его лице человеческая мысль пришла к отчетливому сознанию несовместимости обмирщенного понятия человека с гуманистическим культом человека. Несмотря на весь антирелигиозный и антихристианский пафос Ницше, его отказ от поклонения человеку в его эмпирическом, ординарном, природном – или, как он сам выражается, «человеческом, слишком человеческом» – существе обнаруживает некоторое подлинно религиозное устремление его духа и содержит напоминание о некой фундаментальной забытой правде. В его лапидарной формуле: «человек есть нечто, что должно быть преодолено» подведен итог внутреннему крушению профанного гуманизма и произнесен ему смертный приговор. В этой жуткой формуле содержится смутное прозрение, что человек в его чисто природном существе есть уклонение от некой высшей идеи человека, – что истинно человечно в человеке его высшее, «сверхчеловеческое», именно богочеловеческое существо, и что в этом смысле природно-человеческое начало действительно должно быть преодолено и просветлено. Но эта забытая спасительная истина только смутно преподносится Ницше и подвергается в его мысли страшному и жуткому искажению Требование «преодоления человека» означает здесь одновременно низвержение самой идеи человека. Та реальность, которая издавна и в течение веков – все равно, правильно или ложно понятая – всегда воспринималась как воплощение на земле высшего, осмысляющего жизнь, божественного начала, – реальность человека в его отличии от всех остальных, чисто природных существ – низвергнута здесь в бездну. Что же идет ей на смену? Так как Ницше остался в плену у традиционной антихристианской и антирелигиозной тенденции профанного гуманизма, то идея «сверхчеловека» не только должна была принять характер богоборческого титанизма, но и не могла быть обоснована иначе, чем биологически. Правильная по существу тенденция напомнить человеку о его высшем, аристократическом, «сверхчеловеческом» происхождении и назначении противоестественно оборачивается прославлением сверхчеловека как животного высшей породы или расы, причем мерилом высоты породы оказывается момент власти, жестокости, высокомерного аморализма; воплощением сверхчеловека становится не то ренессанский злодей Цезарь Борджиа, не то древний германец—«белокурая бестия». Так в мире идей совершается роковое, страшное событие: преодоление профанного гуманизма оказывается провозглашением бестиализма. Еще совсем недавно эта странная и жуткая смесь гениальных духовных прозрений и бредовых моральных заблуждений могла казаться каким-то экзотическим цветком уединенной аристократической мысли; и быстро вошедшее в моду «ницшеанство», казалось, должно было остаться сравнительно невинной для жизни умственной забавой снобистических кругов. Теперь, после того как вульгаризованное ницшеанство легло в основу сперва доктрины германского милитаризма, а затем, в противоестественном сочетании с демагогией и культом «массы», выродилось в теорию и практику национал-социализма, – теперь культ беспощадной жестокости, ужасы тоталитарной войны, истребление «низших рас» в газовых камерах показали, к чему реально приводит разложение гуманизма и его переход в бестиализм. В лице марксизма и ницшеанства совершилось внутреннее крушение профанного гуманизма. Неизбежное и само по себе вполне законное обличение его иллюзорности и противоречивости привело, таким образом, к жуткому и роковому результату. Обличение идолопоклонства в обоготворении человека как природного существа приняло характер отрицания веры в саму идею человека – в святость человека как образа Божия. Выражая то же в терминах основной темы наших размышлений, мы можем сказать: усмотрение несостоятельности мысли, что природное, непросветленное существо человека может быть творцом и носителем высшего света, приводит парадоксальным образом к прямому культу тьмы как стихии, способной из себя породить свет. Марксизм и ницшеанство – в других отношениях прямо противоположные друг другу – оказались, таким образом, солидарными в этом культе – в вере, что высшее состояние человечества может быть осуществлено через разнуздание и санкционирование низших, животных, злых сил человеческого существа. Эту новую извращенную веру можно было бы назвать демоническим утопизмом. Противоречивость профанного гуманизма сменена в демоническом утопизме противоречием еще более вопиющим. К чему это противоречие приводит на практике, показала история нашего времени. В лице русского большевизма марксизм превратил старый гуманитарный социализм в господство злодейски-тиранического деспотизма; злые, темные средства к осуществлению царства добра и правды оказались самоцелью – зло не породило добра, а цинически утвердило само себя, само воцарилось на земле. А биологический и аморалистический аристократизм учения Ницше, сочетавшись с демагогической революционностью, выродился в учение о творческой роли насилия, практические плоды которого человечество теперь пожало во всех пережитых им ужасах. Крушение профанного гуманизма привело мир к господству умонастроения и практики жизни разбойничьей шайки, потопило на наших глазах мир в море крови и слез. Так роковая историческая судьба профанного гуманизма, в силу внутреннего противоречия, с самого начала его разъедающего, приводит к тому, что вера в величие и высокое предназначение человека, культ человека как святыни, кончается кощунственным отвержением всего святого в человеческой жизни, циническим прославлением злого, звериного начала – потерей самого человеческого образа. Этого кощунства и цинизма не может стерпеть человеческое сердце. Каким-то инстинктом, вне всяких рассуждений, – каким-то ему присущим органом духовного познания – оно уже давно начало ощущать, что историческая судьба профанного гуманизма ведет человеческую мысль по ложному пути и должна довести ее до бездны. Страшный опыт нашего времени с окончательной очевидностью подтвердил это предчувствие, по крайней мере в отношении массового применения вульгаризованного ницшеанства, а зрячая часть европейского человечества начинает видеть, что вульгаризованный марксизм практически приводит к тем же результатам. Это сознание также принадлежит к характерному составу нынешнего духовного кризиса. Но что может человеческая мысль противопоставить этому страшному итогу, до которого она доведена? Реальность.ru / Книги / С.Л. Франк / Свет во тьме |
| Оглавление |
| |
|
|
|
|